25 томов театроведения
Карина Добротворская.
«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Вадим Максимов
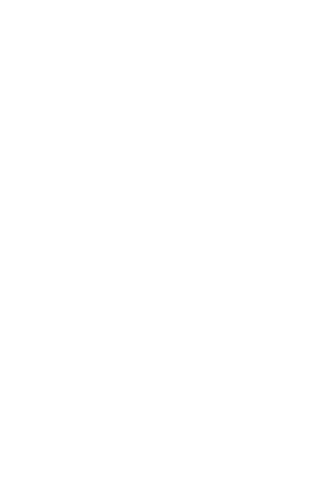
Добротворская К. Кто-нибудь видел мою девчонку? М.: АСТ, 2014. 352 с.
Современное театроведение разительно отличается от первого театроведения столетней давности. Это объективный процесс, потому что за сто лет изменилось всё. Мы видим, как на наших глазах рождается новая форма театральной критики, которую мы назвали «практической критикой» (блогерской), и которая все-таки ближе к массовой культуре.
А что происходит с театроведением, в котором еще просматриваются последствия трех его составляющих - теории, истории и критики? Среди того, что происходит, возможно наиболее показательное явление - произведения театроведа, выпускницы ЛГИТМиКа, в настоящее время - крупнейшего медиаменеджера - Карины Добротворской.
Наиболее показательное произведение - бестселлер «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Книга, вышедшая шесть лет назад, наделавшая много шума, переизданная, в настоящее время дозрела до того, чтобы воплотиться на широкоформатном экране. Шесть лет назад казалось парадоксальным воплощение эстетики театроведения в форме бульварного романа. Сегодня эта книга - воплощение современного театроведения.
Автобиографический роман, героем которого заявлен театровед и кинокритик Сергей Добротворский, написан в форме писем умершему бывшему мужу. Этот исторический персонаж представлен в романном образе интеллектуала-плейбоя, судьба которого определяется отношениями с автором книги. Сложность и трагичность реального человека здесь не рассматривается. Внутренний конфликт одаренного и амбициозного юноши-бунтаря определялся многими факторами, прежде всего - наличием доминирующей фигуры отца, занимавшего пост главного редактора Главной редакции информации Ленинградского телевидения (должность сотрудника КГБ).
С документальной подробностью воспроизводятся сцены из личной жизни героев и быта творческой богемы. В лучших театроведческих традициях автор создает широкое интертекстуальное поле, насыщенное ассоциациями с шедеврами киноклассики и с современными актуальными фильмами. Описывая эротические сцены, театровед-профессионал пользуется ассоциациями не с порно-продукцией, а с танцами Жозефины Бейкер. Это общий принцип, как и скрытые цитаты. Но дело не только в интеллектуальном контексте. Дело в используемом методе, которым является театрализация. Быт превращается в театр. Вот как описывается сцена первой близости:
«Положил руки мне на грудь - так осторожно, словно грудь была хрустальная. Стал очень медленно расстегивать блузку. Под ней был белый кружевной открытый бюстгальтер, который тогда называли «Анжеликой» - такая специальная модель, высоко поднимавшая грудь, купленная где-то по случаю за бешеные деньги - 25 рублей. В нем моя и без того не маленькая грудь казалась какой-то совсем порнографической - и одновременно почти произведением искусства». (С. 37)
Театроведческое мастерство здесь проявляется в умении превратить театральную фантазию в убедительную реальность. Особенно замечателен бюстгальтер «Анжелика» (и его цена), который полностью убеждает читателя в документальности и архивности воспроизведения этой сцены.
Это и есть основной распространившийся метод современной театральной критики. Театровед не описывает спектакль, а создает свое решение спектакля, описывает свое видение. Добавляя к этому конкретные, но абсолютно случайные детали и подкрепляя интеллектуальными ассоциациями, он убеждает читателя в том, что на сцене творится то, что рождается в его голове.
И главное свойство профессиональной театральной критики - объектом произведения является не спектакль, а сам критик. Как ни странно, этот общий принцип наиболее удачно воплощает именно Добротворская. Даже в её книге «Блокадные девочки» (2013) она пишет прежде всего о себе, а не о Блокаде.
Сегодня стало очевидным, что основное направление театральной критики развивается в русле, воплощенном в творчестве Карины. Круг замкнулся в последнем опусе, опубликованном в сотом номере ПТЖ. В её мемуарной статье «Laterna magica» рассказывается о безумной любви к театру, которая началась в 13 лет со спектакля «Пятый десяток» в Театре им. Ленсовета. Спектакль показывается как приложение к поездке автора за грибами и преддверие черносмородинового мороженого. Это тот же документальный метод, та же конкретика и убеждающая детальность. А интеллектуальным контекстом становится сравнение себя с Наташей Ростовой и Львом Толстым.
Что касается спектакля и поразившей автора Алисы Фрейндлих, это укладывается в одну фразу: «Я не знаю, что это было, но я отчетливо увидела сноп света, который от нее исходил». Это ярко и убедительно, но разумеется ни спектакля, ни роли, ни каких-либо аргументов - нет. Да и зачем утруждать себя аргументацией? Достаточно произвести эффект - сноп света в тёмном царстве.
Современное театроведение разительно отличается от первого театроведения столетней давности. Это объективный процесс, потому что за сто лет изменилось всё. Мы видим, как на наших глазах рождается новая форма театральной критики, которую мы назвали «практической критикой» (блогерской), и которая все-таки ближе к массовой культуре.
А что происходит с театроведением, в котором еще просматриваются последствия трех его составляющих - теории, истории и критики? Среди того, что происходит, возможно наиболее показательное явление - произведения театроведа, выпускницы ЛГИТМиКа, в настоящее время - крупнейшего медиаменеджера - Карины Добротворской.
Наиболее показательное произведение - бестселлер «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Книга, вышедшая шесть лет назад, наделавшая много шума, переизданная, в настоящее время дозрела до того, чтобы воплотиться на широкоформатном экране. Шесть лет назад казалось парадоксальным воплощение эстетики театроведения в форме бульварного романа. Сегодня эта книга - воплощение современного театроведения.
Автобиографический роман, героем которого заявлен театровед и кинокритик Сергей Добротворский, написан в форме писем умершему бывшему мужу. Этот исторический персонаж представлен в романном образе интеллектуала-плейбоя, судьба которого определяется отношениями с автором книги. Сложность и трагичность реального человека здесь не рассматривается. Внутренний конфликт одаренного и амбициозного юноши-бунтаря определялся многими факторами, прежде всего - наличием доминирующей фигуры отца, занимавшего пост главного редактора Главной редакции информации Ленинградского телевидения (должность сотрудника КГБ).
С документальной подробностью воспроизводятся сцены из личной жизни героев и быта творческой богемы. В лучших театроведческих традициях автор создает широкое интертекстуальное поле, насыщенное ассоциациями с шедеврами киноклассики и с современными актуальными фильмами. Описывая эротические сцены, театровед-профессионал пользуется ассоциациями не с порно-продукцией, а с танцами Жозефины Бейкер. Это общий принцип, как и скрытые цитаты. Но дело не только в интеллектуальном контексте. Дело в используемом методе, которым является театрализация. Быт превращается в театр. Вот как описывается сцена первой близости:
«Положил руки мне на грудь - так осторожно, словно грудь была хрустальная. Стал очень медленно расстегивать блузку. Под ней был белый кружевной открытый бюстгальтер, который тогда называли «Анжеликой» - такая специальная модель, высоко поднимавшая грудь, купленная где-то по случаю за бешеные деньги - 25 рублей. В нем моя и без того не маленькая грудь казалась какой-то совсем порнографической - и одновременно почти произведением искусства». (С. 37)
Театроведческое мастерство здесь проявляется в умении превратить театральную фантазию в убедительную реальность. Особенно замечателен бюстгальтер «Анжелика» (и его цена), который полностью убеждает читателя в документальности и архивности воспроизведения этой сцены.
Это и есть основной распространившийся метод современной театральной критики. Театровед не описывает спектакль, а создает свое решение спектакля, описывает свое видение. Добавляя к этому конкретные, но абсолютно случайные детали и подкрепляя интеллектуальными ассоциациями, он убеждает читателя в том, что на сцене творится то, что рождается в его голове.
И главное свойство профессиональной театральной критики - объектом произведения является не спектакль, а сам критик. Как ни странно, этот общий принцип наиболее удачно воплощает именно Добротворская. Даже в её книге «Блокадные девочки» (2013) она пишет прежде всего о себе, а не о Блокаде.
Сегодня стало очевидным, что основное направление театральной критики развивается в русле, воплощенном в творчестве Карины. Круг замкнулся в последнем опусе, опубликованном в сотом номере ПТЖ. В её мемуарной статье «Laterna magica» рассказывается о безумной любви к театру, которая началась в 13 лет со спектакля «Пятый десяток» в Театре им. Ленсовета. Спектакль показывается как приложение к поездке автора за грибами и преддверие черносмородинового мороженого. Это тот же документальный метод, та же конкретика и убеждающая детальность. А интеллектуальным контекстом становится сравнение себя с Наташей Ростовой и Львом Толстым.
Что касается спектакля и поразившей автора Алисы Фрейндлих, это укладывается в одну фразу: «Я не знаю, что это было, но я отчетливо увидела сноп света, который от нее исходил». Это ярко и убедительно, но разумеется ни спектакля, ни роли, ни каких-либо аргументов - нет. Да и зачем утруждать себя аргументацией? Достаточно произвести эффект - сноп света в тёмном царстве.

Вадим Максимов
Все «25 томов театроведения»

