25 веков театроведения
Станиславский: жертва системы
Владислав Станкевичус
Бунтарь, революционер — это не про него. Провидец, искатель, фантазер, трудоголик — это Станиславский.
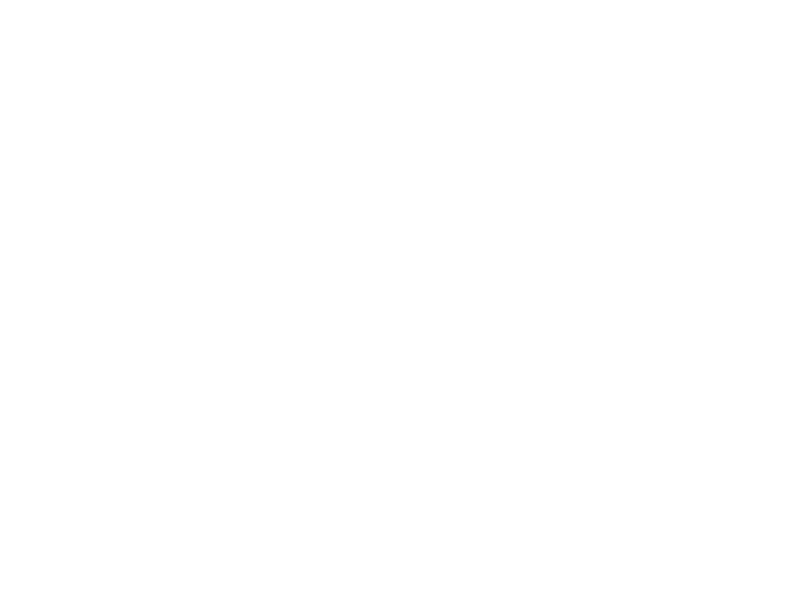
Станиславский, молодой купец, совладелец завода золотой канители, знакомится с известным русским драматургом, они встречаются в самом дорогом ресторане Москвы. В результате появляется МХТ. Публика валит валом. Гастроли в Европе проходят в атмосфере восторга. Станиславский открывает миру драматургию Чехова и Горького.
Мало того, в новой эпохе, лишенный не только завода, но и собственного дома, он обретает славу и влияние, которые не снились ни одному режиссеру мира. После смерти его достижения становятся методическими указаниями для строительства театрального процесса (от театральной архитектуры до социологии зрителя) на одной пятой части суши. Список его учеников и последователей длиной как список гомеровских кораблей. О чем еще может мечтать провидец? Только о всеобщем признании. Так ли все безоблачно?
Станиславский и Немирович-Данченко организуют театральное дело, которое должно было развалиться к концу первого сезона. Ведь денег было недостаточно, в труппе нет звезд, траты на ремонт, декорации и костюмы огромны, в репертуаре провокация — «Чайка»! Театральные эксперименты Станиславского не всегда успешны: Студия на Поварской закрылась, не дав ни одного публичного спектакля, драматургия символистов остается для МХТ закрытой книгой, очень скоро билеты на спектакли театра становятся самыми дорогими в Москве, а наибольшим успехом у публики пользуется спектакль «Осенние скрипки». После революции Станиславский занимается преимущественно педагогикой и все реже появляется в МХТ.
Бунтарь, революционер — это не про него. Провидец, искатель, фантазер, трудоголик — это Станиславский. Его поиски всегда были в области первооснов театра: актерской техники, организации мизансцены, связей сцена-зал. Были глубже, абстрактнее, музыкальней — он всегда искал ритм, гармонию, не мелодию, но мелодику спектакля или роли.
Станиславский поставил перед собой невыполнимую задачу — проанализировать человеческий дух. С педантичностью, достойной ученых, Станиславский провел серию экспериментов в Студиях при МХТ. В результате мы имеем «систему». Пожалуй, самое неудачное определение наследия Станиславского. Это все что, угодно, но не система; как соцреализм или партийность в искусстве — не художественные установки. Публичное одиночество Станиславского сыграло с ним злую шутку. Интимные поиски воплощения жизни человеческого духа на сцене были растиражированы советской идеологией и из живого поиска превратились в доктрину советского актерского образования. Вместо того, чтобы естественно развиваться в кружках адептов, открытия Станиславского стали Системой. Знаем ли мы сейчас, что такое творчество Станиславского? Понимаем ли мы природу его открытий? И да, и нет.
Мало того, в новой эпохе, лишенный не только завода, но и собственного дома, он обретает славу и влияние, которые не снились ни одному режиссеру мира. После смерти его достижения становятся методическими указаниями для строительства театрального процесса (от театральной архитектуры до социологии зрителя) на одной пятой части суши. Список его учеников и последователей длиной как список гомеровских кораблей. О чем еще может мечтать провидец? Только о всеобщем признании. Так ли все безоблачно?
Станиславский и Немирович-Данченко организуют театральное дело, которое должно было развалиться к концу первого сезона. Ведь денег было недостаточно, в труппе нет звезд, траты на ремонт, декорации и костюмы огромны, в репертуаре провокация — «Чайка»! Театральные эксперименты Станиславского не всегда успешны: Студия на Поварской закрылась, не дав ни одного публичного спектакля, драматургия символистов остается для МХТ закрытой книгой, очень скоро билеты на спектакли театра становятся самыми дорогими в Москве, а наибольшим успехом у публики пользуется спектакль «Осенние скрипки». После революции Станиславский занимается преимущественно педагогикой и все реже появляется в МХТ.
Бунтарь, революционер — это не про него. Провидец, искатель, фантазер, трудоголик — это Станиславский. Его поиски всегда были в области первооснов театра: актерской техники, организации мизансцены, связей сцена-зал. Были глубже, абстрактнее, музыкальней — он всегда искал ритм, гармонию, не мелодию, но мелодику спектакля или роли.
Станиславский поставил перед собой невыполнимую задачу — проанализировать человеческий дух. С педантичностью, достойной ученых, Станиславский провел серию экспериментов в Студиях при МХТ. В результате мы имеем «систему». Пожалуй, самое неудачное определение наследия Станиславского. Это все что, угодно, но не система; как соцреализм или партийность в искусстве — не художественные установки. Публичное одиночество Станиславского сыграло с ним злую шутку. Интимные поиски воплощения жизни человеческого духа на сцене были растиражированы советской идеологией и из живого поиска превратились в доктрину советского актерского образования. Вместо того, чтобы естественно развиваться в кружках адептов, открытия Станиславского стали Системой. Знаем ли мы сейчас, что такое творчество Станиславского? Понимаем ли мы природу его открытий? И да, и нет.
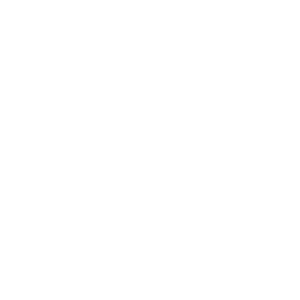
Владислав Станкевичус
Все «25 веков театроведения»

