Научпоп
Взаимное притяжение советского и японского театров
Полина Самсонова
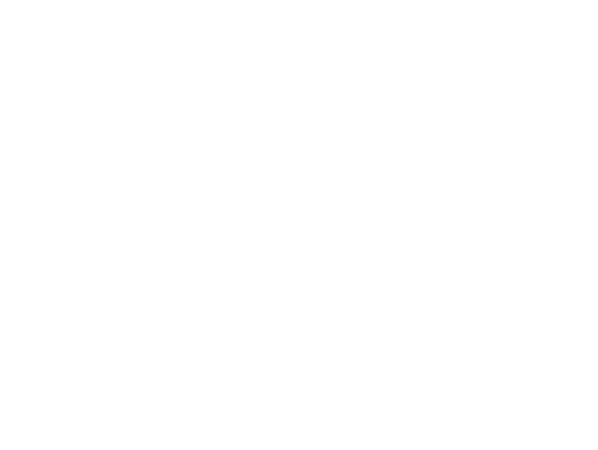
СТАТЬЯ О ПРОПАЖЕ ХАТТОРИ САНДЗИ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА В ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЕ "АСАХИ СИМБУН".
Смена эпох – это мощный стимул для деятелей культуры любых цивилизаций, помогающий им в поисках форм для выражения нового содержания. В конце XIX века под грубым давлением Америки Японии пришлось «пробудиться» от утопического благополучия, в котором пребывала страна на протяжении почти трёхсот лет. Она должна была в кратчайшие сроки научиться жить по стандартам, диктуемым мировой торговой политикой. Столь же кардинальные перемены произошли и в стране европейского типа: уже в начале ХХ века Российская империя под жесточайшим натиском революции переродилась в Союз Советских Социалистических Республик. Столь радикальные изменения в социальных укладах Японии и России требовали необычных подходов в искусстве, в частности в театре. Советские режиссеры искали вдохновения на Востоке, тогда как японские культурные деятели копировали, пытаясь понять культурный код, европейские (российские) театральные тенденции.
Театр – это целый мир, безграничное поле для поисков, экспериментов, размышлений, место объединения идей, людей, цивилизаций. Возможно, под очарование театра попал Хаттори Сандзи, который променял работу в японском МИДе на возможность создавать что-то новое, соединяющее одиноких всего мира.
Хаттори Сандзи родился в 1908 году в городе Инабэ префектуры Миэ. О его семье ничего не известно, но, скорее всего, его отец имел отношение к министерству иностранных дел Японии, так как сын в 1928 году закончил школу при русско-японской ассоциации в Харбине. В ней Хаттори Сандзи выучил русский язык, после чего начал работать в японском консульстве в Новосибирске. Но уже в 1930 году он уехал в Москву, и, видимо, там познакомился с театром. После этого он бросил работу в японском МИДе и поступил в техникум сценических искусств в Ленинграде. По окончанию техникума Хаттори Сандзи работал помощником режиссера в театре С.Э. Радлова, хотя наверняка хотел работать с вождем «Театрального Октября» Вс. Мейерхольдом, как все японцы в то время. С. Радлов был отчасти учеником Мейерхольда, и в 20-е годы полностью разделял страсть наставника к восточному, и в особенности к японскому традиционному театру. В постановке Радлова 1920 года «Султан и черт» даже играл японец, который ловко жонглировал мечами и разговаривал по-японски.
Театр – это целый мир, безграничное поле для поисков, экспериментов, размышлений, место объединения идей, людей, цивилизаций. Возможно, под очарование театра попал Хаттори Сандзи, который променял работу в японском МИДе на возможность создавать что-то новое, соединяющее одиноких всего мира.
Хаттори Сандзи родился в 1908 году в городе Инабэ префектуры Миэ. О его семье ничего не известно, но, скорее всего, его отец имел отношение к министерству иностранных дел Японии, так как сын в 1928 году закончил школу при русско-японской ассоциации в Харбине. В ней Хаттори Сандзи выучил русский язык, после чего начал работать в японском консульстве в Новосибирске. Но уже в 1930 году он уехал в Москву, и, видимо, там познакомился с театром. После этого он бросил работу в японском МИДе и поступил в техникум сценических искусств в Ленинграде. По окончанию техникума Хаттори Сандзи работал помощником режиссера в театре С.Э. Радлова, хотя наверняка хотел работать с вождем «Театрального Октября» Вс. Мейерхольдом, как все японцы в то время. С. Радлов был отчасти учеником Мейерхольда, и в 20-е годы полностью разделял страсть наставника к восточному, и в особенности к японскому традиционному театру. В постановке Радлова 1920 года «Султан и черт» даже играл японец, который ловко жонглировал мечами и разговаривал по-японски.
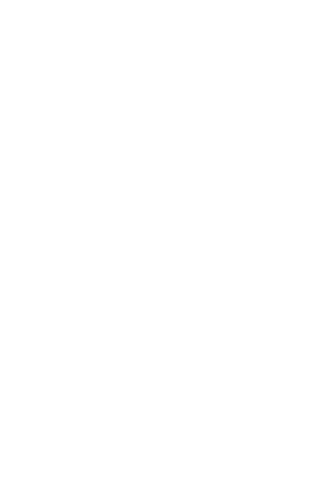
МАЛЫЙ ТЕАТР ЦУКИДЗИ, 1924 ГОД.
В 20-е и 30-е годы ведущие режиссёры Японии грезили Советами, особенно театральной программой Вс. Мейерхольда, ну и конечно, К. Станиславского. Открытый в Токио в 1924 году Малый театр Цукидзи, основанный графом Хидзиката Ёси и интеллектуалом Осанай Каору, был провозглашен «театром для народа», «лабораторией театра».
Малый театр Цукидзи правильнее назвать экспериментальной площадкой. Он не был инструментом пропаганды, позволяющим руководить народными массами, то есть таким, каким мыслился театр вождям коммунистической партии в Союзе. Японские деятели впитывали все, что видели, слышали, читали о европейском и советском театре, но у них не всегда хватало времени осмыслить эту информацию. Поэтому часто в своих высказываниях они смешивали различные понятия и тенденции. Хидзиката Ёси и Осанай Каору путешествовали по Европе и по Советскому союзу, читали и переводили труды ведущих театральных деятелей того времени, вкладывали собственные деньги в создание театра в Японии (здание Малого театра было построено на личные средства Хидзиката Ёси). Бесспорно, они глубоко и фанатично изучали театр, однако они были далеки от «народа» (несмотря на тот факт, что Хидзиката Ёси был членом коммунистической партии Японии). Малый театр для них – это пространство, где можно проверить на практике накопленные знания, а не место, где смог бы найти понимание и поддержку пролетариат.
Малый театр Цукидзи правильнее назвать экспериментальной площадкой. Он не был инструментом пропаганды, позволяющим руководить народными массами, то есть таким, каким мыслился театр вождям коммунистической партии в Союзе. Японские деятели впитывали все, что видели, слышали, читали о европейском и советском театре, но у них не всегда хватало времени осмыслить эту информацию. Поэтому часто в своих высказываниях они смешивали различные понятия и тенденции. Хидзиката Ёси и Осанай Каору путешествовали по Европе и по Советскому союзу, читали и переводили труды ведущих театральных деятелей того времени, вкладывали собственные деньги в создание театра в Японии (здание Малого театра было построено на личные средства Хидзиката Ёси). Бесспорно, они глубоко и фанатично изучали театр, однако они были далеки от «народа» (несмотря на тот факт, что Хидзиката Ёси был членом коммунистической партии Японии). Малый театр для них – это пространство, где можно проверить на практике накопленные знания, а не место, где смог бы найти понимание и поддержку пролетариат.
Представления о японском театре в Советах также были основаны по большей части на книгах, переводах, чьих-то пересказах, картинках и гравюрах укиё-э. Так, Вс. Мейерхольд высоко ценил традиционный театр кабуки, ставил своим актёрам в пример его традиционную исполнительскую технику, но никогда не видел настоящего кабуки.
Начиная с рубежа веков по Европе и Америке путешествовали в огромном количестве различные танцевальные, цирковые, акробатические группы из Японии. Вс. Мейерхольд был глубоко восхищен исполнением Сада Якко, которую видел в 1902 году. До замужества она была гейшей из дома хамата-я, прекрасно владела техникой традиционного японского танца нихон буё, отчасти близкой к технике кабуки. В 1928 году впервые в истории японского театра кабуки выехал на гастроли в Советский союз. Однако в то время Мейерхольд находился в Париже, и не смог побывать на представлениях, организованных потомственных актером кабуки Итикава Садандзи II. Позднее вождь «Театрального Октября» говорил, что в 1931 году в Париже ему посчастливилось побывать на представлении кабуки. Правда, труппа Цуцуи Токудзиро, представления которой посещал Мейерхольд, не принадлежала к традиционному театру. Таким образом, Вс. Мейерхольд много читал о японском театре, бывал на представлениях японских артистов, но никогда не видел настоящего исполнения кабуки, хотя и опирался на него в размышлениях над теорией биомеханики.
Начиная с рубежа веков по Европе и Америке путешествовали в огромном количестве различные танцевальные, цирковые, акробатические группы из Японии. Вс. Мейерхольд был глубоко восхищен исполнением Сада Якко, которую видел в 1902 году. До замужества она была гейшей из дома хамата-я, прекрасно владела техникой традиционного японского танца нихон буё, отчасти близкой к технике кабуки. В 1928 году впервые в истории японского театра кабуки выехал на гастроли в Советский союз. Однако в то время Мейерхольд находился в Париже, и не смог побывать на представлениях, организованных потомственных актером кабуки Итикава Садандзи II. Позднее вождь «Театрального Октября» говорил, что в 1931 году в Париже ему посчастливилось побывать на представлении кабуки. Правда, труппа Цуцуи Токудзиро, представления которой посещал Мейерхольд, не принадлежала к традиционному театру. Таким образом, Вс. Мейерхольд много читал о японском театре, бывал на представлениях японских артистов, но никогда не видел настоящего исполнения кабуки, хотя и опирался на него в размышлениях над теорией биомеханики.
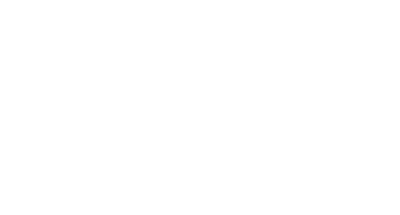
МАЛЫЙ ТЕАТР ЦУКИДЗИ.
СПРАВА - Ё. ХИДЗИКАТА и К. ОСАНАЙ.
СПРАВА - Ё. ХИДЗИКАТА и К. ОСАНАЙ.
Малый театр Цукидзи открылся тремя одноактными спектаклями: «Морской бой» Райнхарда Геринга в постановке Хидзиката Ёси, «Лебединая песнь» Антона Чехова и «Летние каникулы» Эмира Мазо в постановке Осанай Каору. Хидзиката Ёси была близка эстетика экспрессионизма. Ему нравилась театральная условность. Еще до работы в Малом театре он ставил символистскую пьесу «Смерть Тентажиля» (М. Метерлинка) в созданной им любительской труппе «Томодати-дза». Этот спектакль был резко встречен интеллектуалами, которые видели идеал в реалистическом театре. «Морской бой» также произвел сильное впечатление: зрители были в замешательстве от резких, рваных, быстрых движений актеров и от почти агрессивной манеры выбрасываемых в зал реплик. Напротив, спектакли Осанай Каору были близки театральному реализму. В них актеры стремились передать всю палитру психологических переживаний персонажей, не отходя от жизненных реалий.
По театральной программе, которую озвучил Осанай Каору, в Малом театре Цукидзи первые два сезона ставили только переводные пьесы: М. Горький, Г. Кайзер, Л. Пиранделло, А. Стриндберг. Но начиная с третьего сезона в Малом театре стали показывать и пьесы японских авторов. В этой театральной лаборатории на практике опробовали все ведущие театральные эстетики начала ХХ века. Слепое подражание европейскому и советскому театрам уже не устраивало ни режиссеров, ни зрителей. Японское общество захлестнули милитаристские идеи, руководству страны вскружили голову победоносные войны с Китаем и Россией. Японцы видели своим долгом объединить Азию под японским началом, сделав её непобедимой. В 1927 году Осанай Каору провозгласил новую программу: «Япония должна создать в будущем новое театральное искусство. Это искусство должно впитать в себя традиции театров Востока: Индии, Китая, Сиама, стран ближних островов. Кроме того, это искусство должно воспринять традиции западноевропейского театра. Однако в его основе должны лежать принципы нашего национального театра кабуки, существующего уже несколько столетий».
По театральной программе, которую озвучил Осанай Каору, в Малом театре Цукидзи первые два сезона ставили только переводные пьесы: М. Горький, Г. Кайзер, Л. Пиранделло, А. Стриндберг. Но начиная с третьего сезона в Малом театре стали показывать и пьесы японских авторов. В этой театральной лаборатории на практике опробовали все ведущие театральные эстетики начала ХХ века. Слепое подражание европейскому и советскому театрам уже не устраивало ни режиссеров, ни зрителей. Японское общество захлестнули милитаристские идеи, руководству страны вскружили голову победоносные войны с Китаем и Россией. Японцы видели своим долгом объединить Азию под японским началом, сделав её непобедимой. В 1927 году Осанай Каору провозгласил новую программу: «Япония должна создать в будущем новое театральное искусство. Это искусство должно впитать в себя традиции театров Востока: Индии, Китая, Сиама, стран ближних островов. Кроме того, это искусство должно воспринять традиции западноевропейского театра. Однако в его основе должны лежать принципы нашего национального театра кабуки, существующего уже несколько столетий».
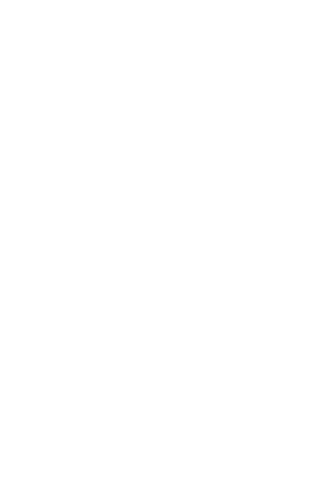
ОСАНАЙ КАОРУ
В 1926 году из-за забастовки рабочих в типографии «Киодо Инсацу» японское правительство стало жестко притеснять коммунистическую партию, в которую входили многие культурные деятели того времени. Труппа Малого театра распалась. В 1928 году скончался Осанай Каору. Хидзиката Ёси продолжал работать с верными ему актерами в труппе «Син-Цукидзи». Однако нападки правительства становились все более суровыми. Это вынудило Хидзиката Ёси с супругой и со своим другом режиссёром Сано Сэки как членов совета Международного объединения революционного театра в 1932 году отправиться в Европу и Советский Союз. В Москве они вошли в общество Вс. Мейерхольда и с 1933 по 1937 годы активно с ним сотрудничали. Сано Сэки работал в Научно-Исследовательской лаборатории при Театре Им. Вс.Э. Мейерхольда. Хидзиката Ёси с женой общались с японскими театральными деятелями, работавшими как в Японии, так и в России. Они были знакомы с Хаттори Сандзи, помощником режиссера в театре С. Радлова, и оставили о нём воспоминания в мемуарах.
Летом 1936 года театр им. С.Э. Радлова гастролировал по Украине. Вместе с ними был Хаттори Сандзи. 10 июня его внезапно арестовывает народный комиссариат внутренних дел. Его перевозят в Ленинград и 28 мая в 1937 года расстреливают. В этом же году была ликвидирована и его жена-немка Эрика Хаттори-Шпуре. В то время, когда всё жило предчувствием войны, советская власть особенно подозрительно относилась к двум нациям: немцам и японцам. Скорее всего, Хаттори Сандзи с супругой оказались случайными жертвами «охоты на шпионов».
3 января 1938 года в газете Асахи была напечатана статья об исчезновении Хаттори Сандзи, и в этот же день границу на Сахалине пересекли театральный режиссёр Рёкити Сугимото (настоящее имя Ёсида Ёсимаса) и звезда японского кинематографа Окада Ёсико. Если Рёкити Сугимото знал русский язык, и даже перевел на японский «Как закалялась сталь» Н. Островского, то Окада Ёсико ничего не понимала по-русски. Рёкити Сугимото и Окада Ёсико мечтали учиться у Вс. Мейерхольда в Москве. Они знали, что с ним работает Сано Сэки, и были уверены, что он им поможет. Однако Сано Сэки и супругов Хидзиката в августе прошлого 1937 года выслали из Советов. Посадить или расстрелять их комиссариат внутренних дел не мог, потому что родственники Сано Сэки и Хидзиката Ёси были влиятельными людьми в японском МИДе. Плюс ко всему влюбленные в театр перебежчики Рёкити и Окада не могли знать, что с 8 января 1938 года начались гонения на театр им. Вс.Э. Мейерхольда и на самого его лидера. Советское правительство искало все возможные способы, чтобы избавиться от революционного режиссёра.
3 января 1938 года в газете Асахи была напечатана статья об исчезновении Хаттори Сандзи, и в этот же день границу на Сахалине пересекли театральный режиссёр Рёкити Сугимото (настоящее имя Ёсида Ёсимаса) и звезда японского кинематографа Окада Ёсико. Если Рёкити Сугимото знал русский язык, и даже перевел на японский «Как закалялась сталь» Н. Островского, то Окада Ёсико ничего не понимала по-русски. Рёкити Сугимото и Окада Ёсико мечтали учиться у Вс. Мейерхольда в Москве. Они знали, что с ним работает Сано Сэки, и были уверены, что он им поможет. Однако Сано Сэки и супругов Хидзиката в августе прошлого 1937 года выслали из Советов. Посадить или расстрелять их комиссариат внутренних дел не мог, потому что родственники Сано Сэки и Хидзиката Ёси были влиятельными людьми в японском МИДе. Плюс ко всему влюбленные в театр перебежчики Рёкити и Окада не могли знать, что с 8 января 1938 года начались гонения на театр им. Вс.Э. Мейерхольда и на самого его лидера. Советское правительство искало все возможные способы, чтобы избавиться от революционного режиссёра.

СУГИМОТО РЁКИТИ
Рёкити Сугимото и Окада Ёсико перевезли на допрос в Александровск, где Рёкити, опьянённый счастьем от того, что, наконец, попал в Советы, рассказал, что они едут в Москву к Мейерхольду. Естественно, этой информацией воспользовались. Позднее актрису и режиссёра перевезли в Москву. На Лубянке под пытками Рёкити Сугимото сознался в том, что он японский шпион, пересек границу, чтобы связаться с ещё одним японским шпионом Вс. Мейерхольдом, с целью организации террористического акта, хотя на самом деле они даже никогда не встречались. В том же месте и Вс. Мейерхольд под пытками сознался, что он шпионил в пользу Японии и сотрудничал с Рёкити Сугимото, о котором даже никогда не слышал. В октябре 1939 года был расстрелян Рёкити Сугимото, а в 1940 году Вс. Мейерхольд. Окада Ёсико была отправлена в лагерь. После возвращения из Вятского ИТЛ в 1953 году она поступила в театральный институт в Москве. Потом долгое время работала в советском театре, кино и на радио, рассказывала японцам о плюсах жизни в Советском Союзе. Она ставила японскую драму в эстетике советского реализма без примесей японской театральной условности.
В первой половине ХХ века советский и японский театры сильно влекло друг к другу. Вс. Мейерхольд, С. Радлов и многие другие видели в традиционном японском театре тот идеал, к которому стремились. Они всеми возможными способами изучали культуру Японии, общались с носителями этой культуры. В то же время японские театральные деятели, путешествуя по Европе, Америке и России, стремились познать западную цивилизацию. Возможно, если бы история сложилась иначе, из сотрудничества Хаттори Сандзи и С. Радлова, или Рёкити Сугимото и Вс. Мейерхольда возник новый евразийский театр. Возможно, если по возвращении в Японию Хидзиката Ёси с супругой не посадили бы в тюрьму, и японское правительство не уничтожало деятелей искусства, разделяющих коммунистические идеи, отношения советского искусства с традиционным японским театром могли бы развиваться. История сложилась иначе. Сано Сэки, проработавший пару лет с Вс. Мейерхольдом, знакомый с системой Станиславского, не вернулся в Японию. Он получил политическое убежище в Мексике, где стал «отцом» основателем мексиканского и колумбийского театров. Мечты, высказанные в последней театральной программе Осанай Каору, сбылись. Японский современный театр второй половины ХХ века впитал в себя театральные традиции Востока и Запада, однако остался верным своим корням.
В первой половине ХХ века советский и японский театры сильно влекло друг к другу. Вс. Мейерхольд, С. Радлов и многие другие видели в традиционном японском театре тот идеал, к которому стремились. Они всеми возможными способами изучали культуру Японии, общались с носителями этой культуры. В то же время японские театральные деятели, путешествуя по Европе, Америке и России, стремились познать западную цивилизацию. Возможно, если бы история сложилась иначе, из сотрудничества Хаттори Сандзи и С. Радлова, или Рёкити Сугимото и Вс. Мейерхольда возник новый евразийский театр. Возможно, если по возвращении в Японию Хидзиката Ёси с супругой не посадили бы в тюрьму, и японское правительство не уничтожало деятелей искусства, разделяющих коммунистические идеи, отношения советского искусства с традиционным японским театром могли бы развиваться. История сложилась иначе. Сано Сэки, проработавший пару лет с Вс. Мейерхольдом, знакомый с системой Станиславского, не вернулся в Японию. Он получил политическое убежище в Мексике, где стал «отцом» основателем мексиканского и колумбийского театров. Мечты, высказанные в последней театральной программе Осанай Каору, сбылись. Японский современный театр второй половины ХХ века впитал в себя театральные традиции Востока и Запада, однако остался верным своим корням.
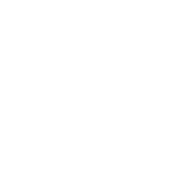
Полина Самсонова
Другие материалы

