Интервью
Михаил Патласов.
Русский театр и мужик с бутылкой водки
Русский театр и мужик с бутылкой водки
Интервью: Елена Мырзина
Рубрика #интервью – это беседы с режиссерами, представляющими актуальные тенденции современного театра. Всем им предложена одна схема вопросов – о природе театра и своей профессии, задачах критики, направлении развития театрального искусства.
Михаил Патласов – российский театральный режиссёр. В 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «режиссёр игрового кино».
На театральной сцене дебютировал в 2011 году спектаклем «Антитела» (об убийстве антифашиста Тимура Качаравы), который был отмечен Национальной театральной премией «Золотая маска». Работает в жанре документального и социального театра, сочетая предельное внимание к реальному герою и документальному свидетельству с игровыми средствами театра.
Среди спектаклей и проектов: «Аллегро» (2013) в Театре-фестивале «Балтийский дом», «Noname» (2015) в рамках «Открытой сцены»; «Перепрошивка» (2015) в режиссерской лаборатории «ON.Театр»; «Новые люди» (2015) в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова; «Шум» (2014), «Тёркин» (2016), «Ливия, 13» (2016), «НеПрикасаемые» (2016), «Чук и Гек» (2017) «Облачный театр» в рамках проекта «Цель визита» (2018) на Новой сцене Александринского театра, «Пыль» (2018) в Новосибирском драматическом театре «Старый дом», «Я убил царя» (2019) в Театре наций.
На театральной сцене дебютировал в 2011 году спектаклем «Антитела» (об убийстве антифашиста Тимура Качаравы), который был отмечен Национальной театральной премией «Золотая маска». Работает в жанре документального и социального театра, сочетая предельное внимание к реальному герою и документальному свидетельству с игровыми средствами театра.
Среди спектаклей и проектов: «Аллегро» (2013) в Театре-фестивале «Балтийский дом», «Noname» (2015) в рамках «Открытой сцены»; «Перепрошивка» (2015) в режиссерской лаборатории «ON.Театр»; «Новые люди» (2015) в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова; «Шум» (2014), «Тёркин» (2016), «Ливия, 13» (2016), «НеПрикасаемые» (2016), «Чук и Гек» (2017) «Облачный театр» в рамках проекта «Цель визита» (2018) на Новой сцене Александринского театра, «Пыль» (2018) в Новосибирском драматическом театре «Старый дом», «Я убил царя» (2019) в Театре наций.
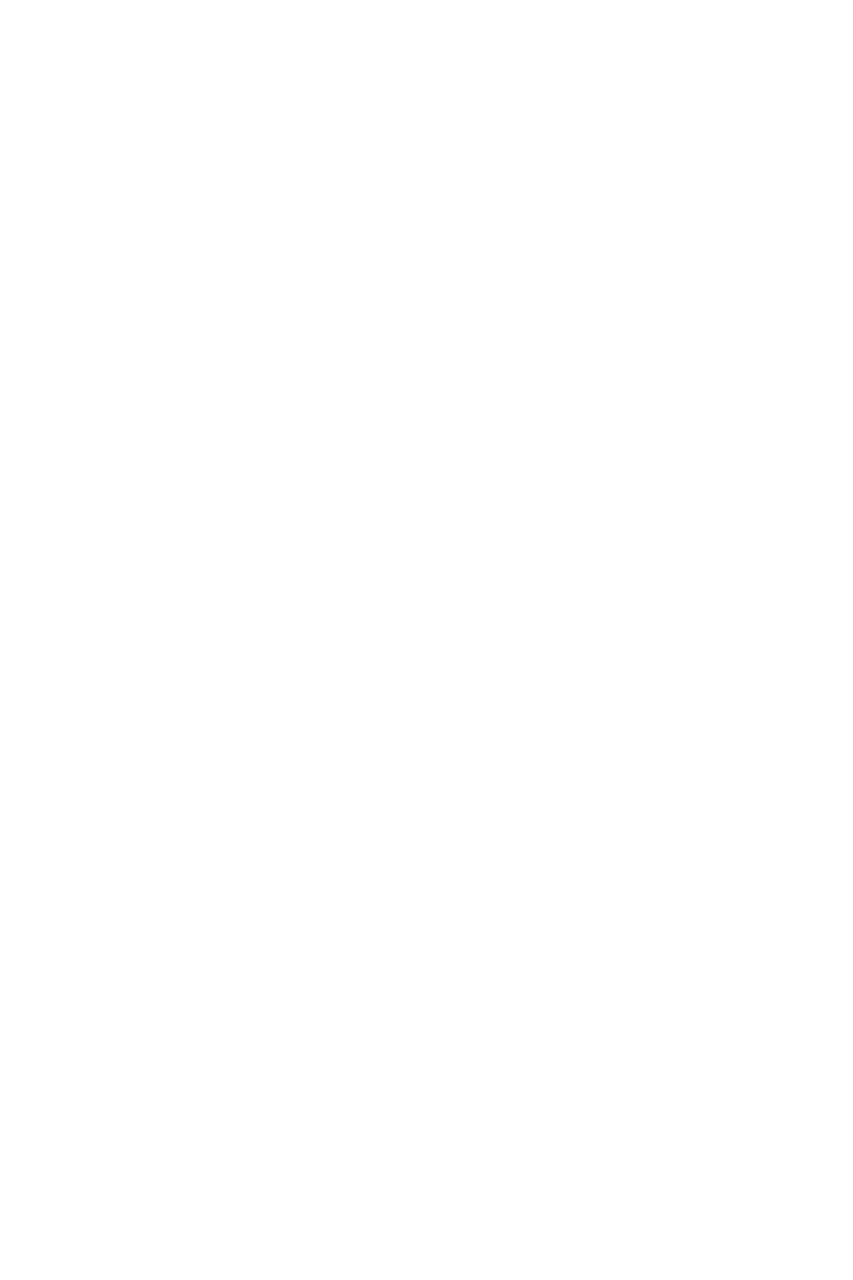
Елена Мырзина: Как Вы думаете, какую роль играет театр в современной жизни? Есть ли ему замена в XXI веке?
Михаил Патласов: Мне кажется, что роль театра сегодня минимальна в сравнении с той, какой могла бы быть. Я исхожу из того, что театр сформировался в городах-полисах в Греции, в демократических обстоятельствах – что очень важно для рождения театра. Тогда это было всё: и СМИ, и телевидение, и общественное собрание. Они позволяли себе шутить над религией и властью, и когда в обществе возникал какой-то новый вопрос, театр его осмыслял и предлагал варианты решения, при этом соединяя между собой разные сферы жизни. Конечно, если смотреть с тех позиций, сегодняшний театр заперся в крепких старинных зданиях и сидит там, всячески защищаясь от любого проникновения «света времени», как мы со студентами шутили.
Не знаю замена ли, но... сейчас мы часто используем видео, появилась виртуальная реальность. Я сделал спектакль «Я убил царя» в VR-очках в Театре наций и не знаю, что это – театр или кино. С одной стороны, это как старинный театральный бинокль, но с другой – это индивидуальный опыт, а не групповой, как обычно бывает в театре или кино. Но я не знаю, что конкретно может стать заменой театра. Рождается ещё что-то, ещё один инструмент, но насколько это будет интегрировано с театром, сложно сказать.
Не знаю замена ли, но... сейчас мы часто используем видео, появилась виртуальная реальность. Я сделал спектакль «Я убил царя» в VR-очках в Театре наций и не знаю, что это – театр или кино. С одной стороны, это как старинный театральный бинокль, но с другой – это индивидуальный опыт, а не групповой, как обычно бывает в театре или кино. Но я не знаю, что конкретно может стать заменой театра. Рождается ещё что-то, ещё один инструмент, но насколько это будет интегрировано с театром, сложно сказать.
Как Вы считаете, есть ли амплуа у режиссёров?
Не уверен. Скорее есть какой-то круг проблематики, на который ты сам резонируешь как режиссёр. Это, наверное, и является твоим своеобразным амплуа. Из него довольно сложно выпрыгнуть, потому что это твое человеческое, субъективное. То, что строится исключительно на твоем опыте.
Что или кто может прийти на смену режиссёру?
Мне кажется, наш театр настолько мощная институция, что ещё лет триста будет существовать без особенных изменений как нечто музейное. Но в целом сейчас режиссёр, конечно, уступает место коллективу, команде. В документальном театре это очевидно. Не я же выхожу на фронт перед зрителем. Артист сам берёт интервью у прототипа, и у них появляется такая связь, в которую ты не имеешь права вмешиваться. Моя главная задача –убрать лишнее, всё это свести так, чтобы не было потери внимания. Но в общем театр сейчас – это всегда коллективная работа.
Что требуется от актёров в Ваших спектаклях? Важно, чтобы они не мешали режиссёру?
Под мои задачи я всегда стараюсь найти личность. Но с этим всегда большие проблемы, потому что артист привык прятать, привык не приходить в театр с плохим настроением, хотя оно не может всегда быть хорошим. Театр – это мощное реабилитирующее человека средство. Ты же зачем приходишь в театр? Чтобы решить какую-то свою проблему, и, если ты видишь артиста, который что-то сам переработал, то это тебя цепляет. Про это личное в человеке я, наверное, и говорю – то есть про способность человека прорабатывать определенные вещи через театр. И когда все, занятые в спектакле, понимают эту силу театра, то готовы, конечно, и бесплатно сидеть и работать.
Если говорить в целом, то мы – наследники той школы, которая была сформирована определенным, очень специфическим образом. Есть вопросы к образовательной программе, например. Я не понимаю, почему артисты учатся 4 года – им явно не хватает кругозора, должно быть не меньше 5 лет. К тому же ребят учат сложившиеся и получившие имя мастера, которым – из-за объективной демографической ямы 90-х годов – никто не дышит в спину, и они делают то, что хотят. По своему небольшому опыту могу сказать, что студенты в начале приходят с последними айфонами и девайсами, они много знают и много читают, но к концу первого курса они все с разбитыми экранами или кнопочными телефонами, никуда не ходят, ничего не видят и находятся в вакууме мастерской. Если повезло – классной мастерской, если не повезло – не классной. Мне кажется странной такая система мастерских, тем более в актёрском ремесле, когда ты должен уметь работать с разными режиссёрами, с абсолютно разными системами и так далее. Опять же выпускается огромное количество актеров, которые не нужны театру. Когда артист выходит из института и не может себя применить, то часто надевает вот эту кепочку в «Макдональдсе», и мы теряем его из профессии. Либо он бесконечно участвует в этих страшных читках, которые ни к чему не приводят. Такая выученная беспомощность его выносит.
Если говорить в целом, то мы – наследники той школы, которая была сформирована определенным, очень специфическим образом. Есть вопросы к образовательной программе, например. Я не понимаю, почему артисты учатся 4 года – им явно не хватает кругозора, должно быть не меньше 5 лет. К тому же ребят учат сложившиеся и получившие имя мастера, которым – из-за объективной демографической ямы 90-х годов – никто не дышит в спину, и они делают то, что хотят. По своему небольшому опыту могу сказать, что студенты в начале приходят с последними айфонами и девайсами, они много знают и много читают, но к концу первого курса они все с разбитыми экранами или кнопочными телефонами, никуда не ходят, ничего не видят и находятся в вакууме мастерской. Если повезло – классной мастерской, если не повезло – не классной. Мне кажется странной такая система мастерских, тем более в актёрском ремесле, когда ты должен уметь работать с разными режиссёрами, с абсолютно разными системами и так далее. Опять же выпускается огромное количество актеров, которые не нужны театру. Когда артист выходит из института и не может себя применить, то часто надевает вот эту кепочку в «Макдональдсе», и мы теряем его из профессии. Либо он бесконечно участвует в этих страшных читках, которые ни к чему не приводят. Такая выученная беспомощность его выносит.
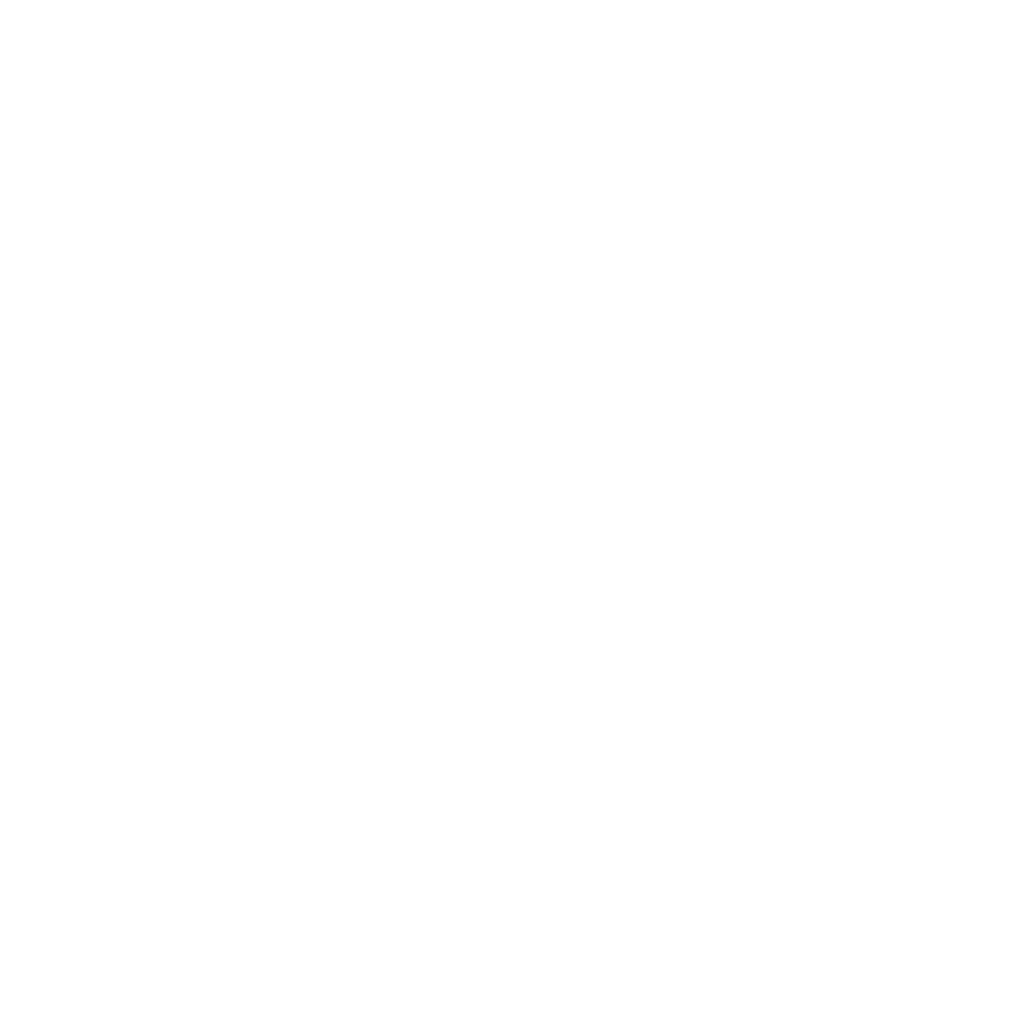
Ваш зритель – кто это?
Для меня человек в театре – это, конечно, пользователь, я употребляю такое слово. Потому что одностороннего зрителя практически не осталось. Кроме развратных туристов – в том смысле, что им все равно, что смотреть. Как, например, это происходит в наших больших театрах, куда люди всё равно будут ходить. Пользователь – потому что, даже если ты читаешь новости в Facebook, у тебя есть возможность прокомментировать. Она уважается, она имеется в виду, ты в принципе на неё рассчитываешь. И когда приходишь в театр, то думаешь: почему я не могу бросить в человека камнем, условно говоря?
Я всегда смотрю на зал на моих спектаклях: мне нравится, что ходят молодые, моё поколение. Зачем мне решать проблемы непонятного мне поколения? «Взрослых» режиссеров полно, эта ниша полностью закрыта. Я работаю для своего поколения, и у меня нет амбиций закрыть все свободные ниши, чтоб всем было хорошо. К тому же я делаю спектакли на камерных сценах, и у меня нет желания делать что-то на больших – это настолько другое искусство, которое совсем не про мои вещи. Мне важен интим, ощущение человеческого лица.
Я всегда смотрю на зал на моих спектаклях: мне нравится, что ходят молодые, моё поколение. Зачем мне решать проблемы непонятного мне поколения? «Взрослых» режиссеров полно, эта ниша полностью закрыта. Я работаю для своего поколения, и у меня нет амбиций закрыть все свободные ниши, чтоб всем было хорошо. К тому же я делаю спектакли на камерных сценах, и у меня нет желания делать что-то на больших – это настолько другое искусство, которое совсем не про мои вещи. Мне важен интим, ощущение человеческого лица.
Каковы задачи критики на Ваш взгляд?
Мне интересно, когда человек – пусть даже ему что-то не понравилось – разбирает мой спектакль профессионально, именно в помощь режиссёру, особенно молодому. Это очень важная межцеховая поддержка. У меня случаются после просмотров разговоры с критиками, которых полезно послушать, чтобы понять, что человек увидел с профессиональной точки зрения. Меня даже иногда обвиняют в том, что я всех слушаю – разговор может повлиять на мой спектакль в дальнейшем. Но сейчас чаще всего читаешь про самого критика: как он пришёл, как ушёл – всё крутится вокруг него. В этом смысле есть большая проблема между режиссёрами и критиками. Они не умеют нам объяснять, а мы их ненавидим за то, что они пишут про себя. Но в целом, мне приятно, что критики начали разбираться в социальном театре, это победа последних 3–5 лет. Раньше приходили: «Блин, у тебя нет декораций, на сцене актёры, мигранты, а в чём искусство? Не знаю, что хотел режиссёр, но вот я напишу». Сейчас эти вопросы уже не возникают. С другой стороны, критик – это не обязательно театровед и не обязательно должен грызть тебя как-то профессионально. Тогда такой критик грызёт тебя скорее со стороны общественного резонанса.
Последние 30–40 лет театр в России сидит на жёсткой интерпретации, очень много концептуализма. И возникает такой момент, что помимо зрителя и режиссёра появляется третье необходимое существо – театровед. Условно говоря, как мужикам в деревне объяснить, что такое «Чёрный квадрат»? Ты пьешь с ними водку и на половине говоришь: «Ты комбайнёр, и каждый год тебе ставят звёздочку на комбайне, а когда их накапливается десять, тебе дают одну красную – это манифест. Так вот «Чёрный квадрат» – это тоже определенный манифест». И до этого мужика доходит. Но для этого мужика нужен я с бутылкой водки. Такой мужик с бутылкой водки – это вы, театроведы. Если вы скажете, что это искусство, то все будут ходить. Если не скажете, то для обычного, нетеатрального человека понять суть будет достаточно сложно.
Последние 30–40 лет театр в России сидит на жёсткой интерпретации, очень много концептуализма. И возникает такой момент, что помимо зрителя и режиссёра появляется третье необходимое существо – театровед. Условно говоря, как мужикам в деревне объяснить, что такое «Чёрный квадрат»? Ты пьешь с ними водку и на половине говоришь: «Ты комбайнёр, и каждый год тебе ставят звёздочку на комбайне, а когда их накапливается десять, тебе дают одну красную – это манифест. Так вот «Чёрный квадрат» – это тоже определенный манифест». И до этого мужика доходит. Но для этого мужика нужен я с бутылкой водки. Такой мужик с бутылкой водки – это вы, театроведы. Если вы скажете, что это искусство, то все будут ходить. Если не скажете, то для обычного, нетеатрального человека понять суть будет достаточно сложно.
Какую роль играет пьеса в Ваших спектаклях? Необходима ли она?
Это история не совсем про меня и документальный театр. И я бы сказал, конечно, не пьеса, но текст – что чаще сейчас встречается. Драматург в парадигме документального театра может быть и журналистом, и идеологом. Мне не нужны прописанные диалоги: драматург даёт некие смысловые пласты, а мы с артистами находимся в осмыслении всего этого. При этом режиссёр волен резать текст так, как ему хочется. «Ливия, 13» – единственное, что можно считать готовой пьесой, которую я ставил. Но и там в основе лежит документальная история, и это больше социальный проект.
Какую пьесу Вы бы заказали Антону Павловичу Чехову?
Пьесу про его смерть. Мне очень нравится момент, что после смерти его тело везли до Москвы в вагоне для устриц. Человек всю жизнь боролся с мещанством и так закончил свой путь.
Я люблю Чехова, невероятный драматург, но мне больше нравятся его рассказы и статьи, которые лежат в основе рассказов. Мне кажется, что проблема Чехова и авторов прошлого состоит в том, что они писали для своего времени – того, где находились. И я люблю Чехова именно как деятеля того времени. Сегодня он нуждается в адаптации.
Я люблю Чехова, невероятный драматург, но мне больше нравятся его рассказы и статьи, которые лежат в основе рассказов. Мне кажется, что проблема Чехова и авторов прошлого состоит в том, что они писали для своего времени – того, где находились. И я люблю Чехова именно как деятеля того времени. Сегодня он нуждается в адаптации.
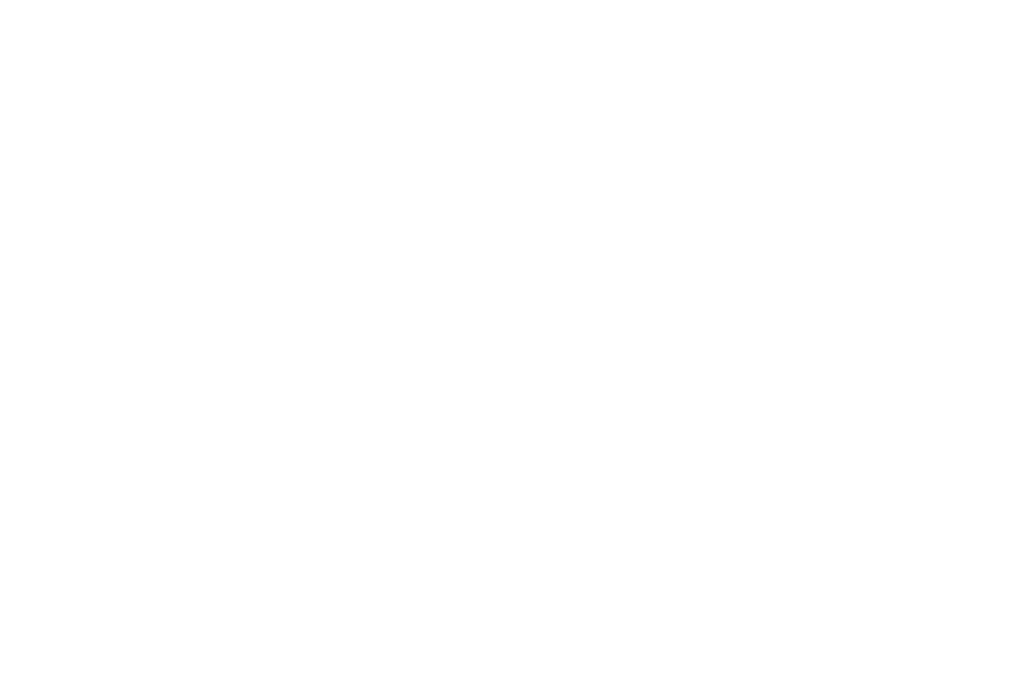
Что такое катарсис в современном театре? Что необходимо для его достижения?
У меня кота так зовут – Катарсис.
Но вообще катарсис – это больше про высокий жанр, который рождается от трагедии, и этого жанра у нас сейчас не существует, его не делают. Плюс все худруки просят спектакли на полтора часа, а эмпатия – дело небыстрое.
При этом в социальном театре я чаще испытываю катарсис, чем в игровом. В игровом у меня был всего один опыт катарсиса, в социальном театре – больше. Например, был спектакль, где подросток тебе рассказывает свою историю, и сначала прячет её от себя, а потом постепенно сам понимает, что сделал – и в этот момент плачут все. Так случается катарсис.
Но вообще катарсис – это больше про высокий жанр, который рождается от трагедии, и этого жанра у нас сейчас не существует, его не делают. Плюс все худруки просят спектакли на полтора часа, а эмпатия – дело небыстрое.
При этом в социальном театре я чаще испытываю катарсис, чем в игровом. В игровом у меня был всего один опыт катарсиса, в социальном театре – больше. Например, был спектакль, где подросток тебе рассказывает свою историю, и сначала прячет её от себя, а потом постепенно сам понимает, что сделал – и в этот момент плачут все. Так случается катарсис.
Какова для Вас иерархия составляющих спектакля?
В документальном театре сначала – зритель, а дальше – фронт, т. е. тот, с кем зритель сталкивается – артист. В закадровом пространстве главный – это идеолог, и это может быть любой человек: продюсер, драматург или режиссёр. Уже потом идут все-все остальные художники. В документальном театре в каком-то смысле работать особенно сложно – нужно понимать, что работаешь на идею. А поскольку часто команда приходит из игрового театра, то это становится болезненным вопросом, и приходится приводить человека в чувство. Вот есть текст, вот документ – это главное, всё остальное – нет.
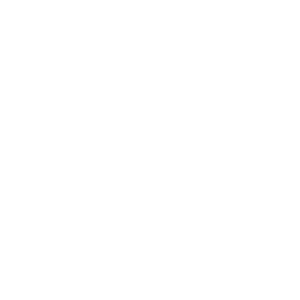
Елена Мырзина
Всё из раздела «Практика»

