Общие вопросы
Сюжеты из жизни Гвоздицкого
Валерий Семеновский
Несколько предварительных слов
Тридцатого сентября 2021-го года В.В. Гвоздицкому, ушедшему из
жизни без малого полтора десятилетия назад, исполнилось бы 69 лет.
Впрочем, есть основания вспоминать о нём и без внешних поводов. Серия
сюжетов, задуманная мной, - это не только его (и отчасти моя) биография.
Здесь множество действующих лиц, усилиями которых последние полвека
создавалась новейшая история русского театра. История, как мне
представляется, недостаточно осмысленная.
Сюжет первый – читателю хорошо бы с него и начать – «Гвоздик,
Витторио, Уксус и Ужас Васильевич». Он опубликован в журнале «Знамя»
№8, 2021.
Второй – «Позавчера», где наряду с Гвоздицким главные роли
отведены Фирсу Шишигину и Иннокентию Смоктуновскому. Недавно я
услышал от коллеги, вроде доброжелательной, но очень уж передовой, что
всё это уже никому не может быть интересно, особенно какой-то там
Шишигин. Я, конечно, так не думаю. Но хотелось бы услышать, что думают
другие.
Остальные сюжеты я надеюсь выкладывать здесь по мере их
готовности.
Пока могу анонсировать третий. Он называется «Riga». Речь там идёт о
рижском ТЮЗе, где Гвоздицкий дебютировал осенью 1971-го года. О
Николае Шейко, Адольфе Шапиро, Марте Китаеве, Романе Тименчике… а
также, как ни странно, о Марии Бабановой, Валерии Бебутове, Александре
Гладкове, Игоре Ильинском… И о многом другом.
ПОЗАВЧЕРА
РАНЕВСКАЯ. Спасибо тебе, Фирс. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты ещё жив.
ФИРС. Позавчера.
А. П. Чехов "Вишнёвый сад"
ишь ты
Июнь 1967 года. Витя Гвоздицкий, мальчик из Кропоткина, кубанского городка, в сопровождении мамы приезжает в Ярославль поступать в театральное училище. Мама втайне надеется, что его не примут: рано ещё ему начинать самостоятельную жизнь, вдали от родительского присмотра. И похоже, шансов у него никаких: большинству абитуриентов семнадцать лет, а то и двадцать, иные успели в армии отслужить. А Вите пятнадцать только в сентябре исполнится.
Первый тур он проходит бойко, невольно веселя экзаменаторов. Опыт, говорит, у меня пока небольшой, хотя в школьном драмкружке все главные роли играл.
‒ Арбенина в "Маскараде" играли уже? ‒ шутит Виктор Александрович Давыдов, режиссёр и педагог.
‒ Нет, этого я не играл.
‒ Как?! Почему?!
‒ Не успел ещё.
Члены комиссии смеются.
‒ Непосредственный малец, ‒ слышит Витя, закрывая за собой дверь. ‒ Куражистый.
На втором туре Давыдов задаёт тот же вопрос (желая, видно, позабавить тех экзаменаторов, которые на первом туре отсутствовали). Всё повторяется один в один, и абитуриент понимает, что опять произвёл хорошее впечатление.
На третий тур является Фирс Ефимович Шишигин. Сам. Главный режиссёр Театра имени Фёдора Волкова. Начальник всех и вся. Он набирает курс. Прежде Витя ни разу его не видел. Увидев же – холодеет, зажимается. А тот, суровый бог, глядит на него, не мигая; дескать, насквозь тебя вижу ‒ и порицаю заранее.
‒ Сергей Михалков. «Две подруги». Красиво ты живёшь, любезная сестрица, ‒ сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь…
‒ Достаточно.
‒ Николай Алексеевич Некрасов. У бурмистра Власа бабушка Ненила починить избёнку леса попросила…
‒ Достаточно.
‒ Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.
‒ Неужто даёшь? – интересуется Шишигин. – Ишь ты.
‒ Я всякий день на балах.
‒ Достаточно. Ступай.
‒ Ещё есть монолог Олега Кошевого. Про мать его…
‒ Про мать его не надо. Ступай.
‒ А не могли бы вы,– оживляется Давыдов,– прочитать монолог Арбенина?
‒ Нет! Не могу я этого! Этого… не играл!
‒ Как?! Почему?! (С улыбкой поощрения, предвкушая проверенный эффект.)
‒ Сыграю ещё. Жизнь длинная.
Непредвиденная импровизация способствует эффекту обратному. Выйдя в коридор и прильнув к неплотно закрытой двери, будущий Арбенин слышит возглас сурового бога:
‒ Если он сейчас такой нахал, что же будет дальше?!
На немой вопрос мамы, ожидающей тут же, в коридоре, отвечает:
‒ Едем домой.
Утро. Дорога на вокзал. Остановка «Площадь Подбельского». Вдруг ‒ выскакивает из троллейбуса. Прибегает в училище. На минутку. Посмотреть на список поступивших. Сам не знает, зачем. Нет, ни на что не надеется. Чудес не бывает. Просто интересно, кому повезло. Так. Астафьев. Барабанова. И сразу Жинкина. На букву «Г» никого. Последние в списке – Цурило и Шубников. Всё.
А после Цурилы и Шубникова… в самом конце машинописной страницы, карандашом… Гвоздицкий.
Первый тур он проходит бойко, невольно веселя экзаменаторов. Опыт, говорит, у меня пока небольшой, хотя в школьном драмкружке все главные роли играл.
‒ Арбенина в "Маскараде" играли уже? ‒ шутит Виктор Александрович Давыдов, режиссёр и педагог.
‒ Нет, этого я не играл.
‒ Как?! Почему?!
‒ Не успел ещё.
Члены комиссии смеются.
‒ Непосредственный малец, ‒ слышит Витя, закрывая за собой дверь. ‒ Куражистый.
На втором туре Давыдов задаёт тот же вопрос (желая, видно, позабавить тех экзаменаторов, которые на первом туре отсутствовали). Всё повторяется один в один, и абитуриент понимает, что опять произвёл хорошее впечатление.
На третий тур является Фирс Ефимович Шишигин. Сам. Главный режиссёр Театра имени Фёдора Волкова. Начальник всех и вся. Он набирает курс. Прежде Витя ни разу его не видел. Увидев же – холодеет, зажимается. А тот, суровый бог, глядит на него, не мигая; дескать, насквозь тебя вижу ‒ и порицаю заранее.
‒ Сергей Михалков. «Две подруги». Красиво ты живёшь, любезная сестрица, ‒ сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь…
‒ Достаточно.
‒ Николай Алексеевич Некрасов. У бурмистра Власа бабушка Ненила починить избёнку леса попросила…
‒ Достаточно.
‒ Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.
‒ Неужто даёшь? – интересуется Шишигин. – Ишь ты.
‒ Я всякий день на балах.
‒ Достаточно. Ступай.
‒ Ещё есть монолог Олега Кошевого. Про мать его…
‒ Про мать его не надо. Ступай.
‒ А не могли бы вы,– оживляется Давыдов,– прочитать монолог Арбенина?
‒ Нет! Не могу я этого! Этого… не играл!
‒ Как?! Почему?! (С улыбкой поощрения, предвкушая проверенный эффект.)
‒ Сыграю ещё. Жизнь длинная.
Непредвиденная импровизация способствует эффекту обратному. Выйдя в коридор и прильнув к неплотно закрытой двери, будущий Арбенин слышит возглас сурового бога:
‒ Если он сейчас такой нахал, что же будет дальше?!
На немой вопрос мамы, ожидающей тут же, в коридоре, отвечает:
‒ Едем домой.
Утро. Дорога на вокзал. Остановка «Площадь Подбельского». Вдруг ‒ выскакивает из троллейбуса. Прибегает в училище. На минутку. Посмотреть на список поступивших. Сам не знает, зачем. Нет, ни на что не надеется. Чудес не бывает. Просто интересно, кому повезло. Так. Астафьев. Барабанова. И сразу Жинкина. На букву «Г» никого. Последние в списке – Цурило и Шубников. Всё.
А после Цурилы и Шубникова… в самом конце машинописной страницы, карандашом… Гвоздицкий.
смельчак
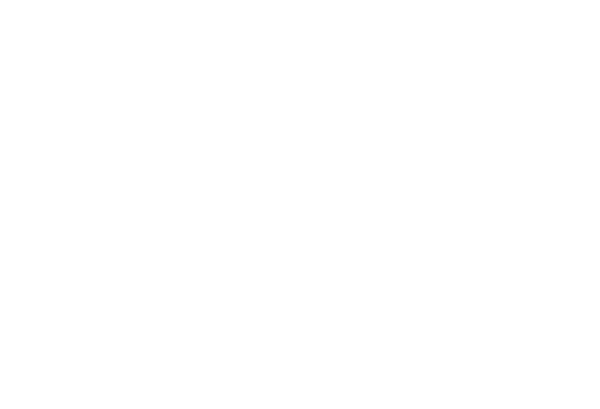
Шишигин был фигурой всесоюзного масштаба. Всюду заседал, представительствовал, значился. Помню его на трибуне. Это было в середине семидесятых, в Большом зале Центрального Дома актёра на улице Горького. Шла какая-то важная конференция, куда я, молодой, да ранний, был допущен в качестве корреспондента отдела публицистики журнала «Театр».
Насупленный старик, крепкий ещё, осанистый (ему не было семидесяти, но мне казалось ‒ все сто), с окладистой бородой и колючими глазками, сжимая в руке суковатую палку (которая всегда была при нём), грозился дать острастку шушере мелкотемья, шебуршащей в гнилом болоте абстрактного гуманизма. Бескомпромиссная позиция оратора подкреплялась его неколебимой уверенностью в том, что теперь, когда с каждым днём обостряется идеологическая борьба, деятелям советского театра необходимо ещё теснее сплотиться под мудрым руководством родной Коммунистической партии, её ленинского Центрального Комитета и лично Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева.
Насупленный старик, крепкий ещё, осанистый (ему не было семидесяти, но мне казалось ‒ все сто), с окладистой бородой и колючими глазками, сжимая в руке суковатую палку (которая всегда была при нём), грозился дать острастку шушере мелкотемья, шебуршащей в гнилом болоте абстрактного гуманизма. Бескомпромиссная позиция оратора подкреплялась его неколебимой уверенностью в том, что теперь, когда с каждым днём обостряется идеологическая борьба, деятелям советского театра необходимо ещё теснее сплотиться под мудрым руководством родной Коммунистической партии, её ленинского Центрального Комитета и лично Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева.
Аудитория, тёртая, профессионально чуткая к оттенкам словесного блуда, напряжённо ждала, чьи имена и спектакли будут отданы на заклание. Лишь один человек в зале вёл себя неадекватно ситуации. Это был я. Я томился напоказ, вертелся, хмыкал, вздыхал, качал головой. И наконец ‒ вполголоса ‒ вякнул:
‒ Старый мудозвон.
Сидевший рядом со мной режиссёр Ефим Табачников, щуплый, дёрганный, битый не раз и не два, ткнул меня в бок локотком. В смысле – кончай паясничать. Этот тычок я расценил как проявление цензуры. Цензуры обидной вдвойне: я ведь считал, что он свой! Единомышленник! Но, чувствуя, что единомышленник раздражён не на шутку, я всё-таки притих.
Шишигин меж тем ни одного имени, ни одного спектакля не назвал. Кто заслужил острастку, кто шебуршит в болоте, только подразумевалось, не более того.
‒ Обошлось без погрома, ‒ констатировал Ефим Давыдович, когда мы спустились в буфет. И, не берясь объяснить конкретную причину такой аномалии, удовлетворился обобщением:
‒ В жизни бывает всякое.
Я-то думал, что он пригласил меня на чашку кофе (чего раньше не случалось в силу неблизкого на тот момент знакомства) специально для того, чтобы обсудить возникший между нами инцидент. Но об этом он ничего не сказал.
К нашему столику устремился режиссёр Феликс Берман.
Если Ефим Давыдович, принадлежавший к наилегчайшей весовой категории, был стреляный воробей, то Феликс Соломонович, тоже битый неоднократно, был вовсе не воробей. Он был силач-эксцентрик, борец Бамбула, неудержимо рвущийся навстречу новым неприятностям: неоправданно победоносный.
‒ Семеновский! Смельчак! – протрубил он, ликуя, ещё на подходе, чем привлёк к нам внимание всех, кто толпился в буфете. ‒ Это вы так удачно открыли рот, когда выступал Шишигин?!
Некоторые из присутствующих присоседились к Феликсу. Улыбчивые люди. Им тоже послышалось кое-что.
Увидев, что я польщён и намерен изложить идейные мотивы своего диссидентского подвига, Ефим Давыдович поспешил меня опередить.
‒ Да это не он! Мы рядом сидели, он всё время дремал от скуки. Это был кто-то другой. (Обратившись ко мне.) Ты не заметил, кто это был?
Пришлось сказать, что не заметил. Как я мог заметить, если я дремал?
Все потеряли к нам интерес. Кроме Феликса. Он сел за наш столик – и уплыл куда-то, в какую-то печальную страну. Потом вернулся:
‒ Вообще-то да. Не надо лезть на рожон. Нет, это был настоящий эксцентрический жест. Но вообще-то да. Не делайте так больше, Семеновский.
Смешно и грустно. Эти два человека, значительно старше меня, один – на тридцать лет, другой – на двадцать, хотели, каждый по-своему, меня оберечь. А сами заработали устойчивую репутацию людей невыдержанных, взрывоопасных, не научившихся правильно жить. Может быть, поэтому они отнеслись ко мне так. А может быть, просто потому, что были добры.
‒ Старый мудозвон.
Сидевший рядом со мной режиссёр Ефим Табачников, щуплый, дёрганный, битый не раз и не два, ткнул меня в бок локотком. В смысле – кончай паясничать. Этот тычок я расценил как проявление цензуры. Цензуры обидной вдвойне: я ведь считал, что он свой! Единомышленник! Но, чувствуя, что единомышленник раздражён не на шутку, я всё-таки притих.
Шишигин меж тем ни одного имени, ни одного спектакля не назвал. Кто заслужил острастку, кто шебуршит в болоте, только подразумевалось, не более того.
‒ Обошлось без погрома, ‒ констатировал Ефим Давыдович, когда мы спустились в буфет. И, не берясь объяснить конкретную причину такой аномалии, удовлетворился обобщением:
‒ В жизни бывает всякое.
Я-то думал, что он пригласил меня на чашку кофе (чего раньше не случалось в силу неблизкого на тот момент знакомства) специально для того, чтобы обсудить возникший между нами инцидент. Но об этом он ничего не сказал.
К нашему столику устремился режиссёр Феликс Берман.
Если Ефим Давыдович, принадлежавший к наилегчайшей весовой категории, был стреляный воробей, то Феликс Соломонович, тоже битый неоднократно, был вовсе не воробей. Он был силач-эксцентрик, борец Бамбула, неудержимо рвущийся навстречу новым неприятностям: неоправданно победоносный.
‒ Семеновский! Смельчак! – протрубил он, ликуя, ещё на подходе, чем привлёк к нам внимание всех, кто толпился в буфете. ‒ Это вы так удачно открыли рот, когда выступал Шишигин?!
Некоторые из присутствующих присоседились к Феликсу. Улыбчивые люди. Им тоже послышалось кое-что.
Увидев, что я польщён и намерен изложить идейные мотивы своего диссидентского подвига, Ефим Давыдович поспешил меня опередить.
‒ Да это не он! Мы рядом сидели, он всё время дремал от скуки. Это был кто-то другой. (Обратившись ко мне.) Ты не заметил, кто это был?
Пришлось сказать, что не заметил. Как я мог заметить, если я дремал?
Все потеряли к нам интерес. Кроме Феликса. Он сел за наш столик – и уплыл куда-то, в какую-то печальную страну. Потом вернулся:
‒ Вообще-то да. Не надо лезть на рожон. Нет, это был настоящий эксцентрический жест. Но вообще-то да. Не делайте так больше, Семеновский.
Смешно и грустно. Эти два человека, значительно старше меня, один – на тридцать лет, другой – на двадцать, хотели, каждый по-своему, меня оберечь. А сами заработали устойчивую репутацию людей невыдержанных, взрывоопасных, не научившихся правильно жить. Может быть, поэтому они отнеслись ко мне так. А может быть, просто потому, что были добры.
смельчак
У Гвоздицкого в мемуарном очерке «Читатель своей жизни», написанном в 1993 году, и окладистая борода, и суковатая палка Шишигина представлены иначе. Наравне с впечатлениями о городе ‒ «старом, белоснежном, атласном», о здании училища, «напоминавшем башенку», и о пирожках с рыбой и горохом, «мокрых и невкусных», зато дешёвых [Цит. по: Виктор Гвоздицкий в это мгновение театра. М., 1998. С. 15.] . В 2003-м, вернувшись к теме, он внёс существенные дополнения. Упомянул, что «фамилия Шишигина стояла под многими разгромными коллективными письмами, опубликованными в центральных газетах». Что он «дружил с Зубковым, был такой одиозный критик». Что «пьесы Софронова, Мдивани, Ариадны и Петра Туров составляли большую часть репертуара». Назвал Шишигина «может быть, в чём-то страшным, жестоким». Но немедленно, в той же фразе, добавил: «…и поразительно одарённым» [Цит. по: Виктор Гвоздицкий. Последние. М., 2007. С. 21.].
Человеку, которого Витя находил одарённым, он мог простить биографию.
Мне очень не понравилось, как он сопоставляет – уравнивает ‒ Шишигина и Олега Ефремова. И тот, и другой, по Гвоздицкому, «обладали гипнотической силой воздействия на людей театра». Шишигина «обожали, боготворили», Ефремов «тоже мог со всеми сделать всё! Увлечь, заставить, покорить, уговорить, включить. Оба они (Шишигин и Ефремов) легко могли привести и к подвигу, и к злодейству. Тому, кого они вели, это становилось уже всё равно» [Там же. С. 20.] .
Не надо, Витя, говорить за всех. Если вам всё равно, это ещё не значит, что всем всё равно. И почему ни слова о том, что эти два обладателя гипнотической силы в театральном и общественном контексте своего времени были антагонистами и применяли свою силу всё-таки в разных целях?
Этого я ему не сказал. Не знаю, почему. Не помню. А теперь, когда его нет, остаётся лишь предполагать, как бы он ответил на этот упрёк.
Предполагаю.
Вы что, Валера, шестидесятник? Дитя двадцатого съезда? Борец с отдельными перегибами во имя разрешённой полуправды? Ну хорошо: один был прогрессивный, другой реакционный. А в каких пределах? Оба советские очень, скованные одной цепью, как тезис и антитезис. Не это интересно в них. Интересно и ценно только то, что указывает на сложный состав личности, на могучий талант, несводимый к стычке направлений, так или иначе отдающих коллективизацией духа.
Взявшись возражать самому себе от его лица, я, конечно, фантазирую, но не слишком вольно. Принимаю в расчёт слышанные от него (в различных ситуациях) едкие выражения: правда общих мест и нищета единомыслия. От слова «единомышленник», распространённого как раз в шестидесятые, в среде молодого ефремовского Современника (и позднее тоже, по инерции), Витю передёргивало.
Рассуждал он так.
Без правды общих мест, одной на всех, не обойтись, не выжить. Но ключ к отдельному человеку с её помощью не подберёшь. Для этого существует правда индивидуальных отклонений. Неочевидная, противоречивая, богатая смысловыми оттенками, она отзывается в окружающих беспокойством и замешательством. Любое сообщество, будь оно хоть трижды передовым, усматривает в ней угрозу разоблачения своего непрочного единства, своей комфортной нищеты.
Впрочем, если бы я и затеял разговор о Шишигине и Ефремове, он скорее всего не стал бы приводить ответные аргументы. Отшутился бы: «Не грузите меня. Для артиста я и так понимаю слишком много». Ушёл бы от серьёзного ответа, как не раз уходил, когда продолжение разговора сулило затронуть ту область внутреннего опыта, которая должна оставаться непроговоренной, неподотчётной никому.
Человеку, которого Витя находил одарённым, он мог простить биографию.
Мне очень не понравилось, как он сопоставляет – уравнивает ‒ Шишигина и Олега Ефремова. И тот, и другой, по Гвоздицкому, «обладали гипнотической силой воздействия на людей театра». Шишигина «обожали, боготворили», Ефремов «тоже мог со всеми сделать всё! Увлечь, заставить, покорить, уговорить, включить. Оба они (Шишигин и Ефремов) легко могли привести и к подвигу, и к злодейству. Тому, кого они вели, это становилось уже всё равно» [Там же. С. 20.] .
Не надо, Витя, говорить за всех. Если вам всё равно, это ещё не значит, что всем всё равно. И почему ни слова о том, что эти два обладателя гипнотической силы в театральном и общественном контексте своего времени были антагонистами и применяли свою силу всё-таки в разных целях?
Этого я ему не сказал. Не знаю, почему. Не помню. А теперь, когда его нет, остаётся лишь предполагать, как бы он ответил на этот упрёк.
Предполагаю.
Вы что, Валера, шестидесятник? Дитя двадцатого съезда? Борец с отдельными перегибами во имя разрешённой полуправды? Ну хорошо: один был прогрессивный, другой реакционный. А в каких пределах? Оба советские очень, скованные одной цепью, как тезис и антитезис. Не это интересно в них. Интересно и ценно только то, что указывает на сложный состав личности, на могучий талант, несводимый к стычке направлений, так или иначе отдающих коллективизацией духа.
Взявшись возражать самому себе от его лица, я, конечно, фантазирую, но не слишком вольно. Принимаю в расчёт слышанные от него (в различных ситуациях) едкие выражения: правда общих мест и нищета единомыслия. От слова «единомышленник», распространённого как раз в шестидесятые, в среде молодого ефремовского Современника (и позднее тоже, по инерции), Витю передёргивало.
Рассуждал он так.
Без правды общих мест, одной на всех, не обойтись, не выжить. Но ключ к отдельному человеку с её помощью не подберёшь. Для этого существует правда индивидуальных отклонений. Неочевидная, противоречивая, богатая смысловыми оттенками, она отзывается в окружающих беспокойством и замешательством. Любое сообщество, будь оно хоть трижды передовым, усматривает в ней угрозу разоблачения своего непрочного единства, своей комфортной нищеты.
Впрочем, если бы я и затеял разговор о Шишигине и Ефремове, он скорее всего не стал бы приводить ответные аргументы. Отшутился бы: «Не грузите меня. Для артиста я и так понимаю слишком много». Ушёл бы от серьёзного ответа, как не раз уходил, когда продолжение разговора сулило затронуть ту область внутреннего опыта, которая должна оставаться непроговоренной, неподотчётной никому.
на глубине
Двадцатилетним новобранцем четвергов, которые устраивал Зиновий Зиник незадолго до своего отъезда в эмиграцию, я довольно быстро – и поверхностно – усвоил стилистику двойственного высказывания, стилистику уклонения от обступающей нас однозначной, безальтернативной действительности. От правды общих мест, как сказал бы Витя (которого в моей жизни тогда ещё не было). Подражая рефлексии Зиника, куда более глубокой, чем моя, ведущей к прямому действию, я всё же не только наигрывал, но и в самом деле испытывал такое смятение, прежде неведомое мне, когда тебя одолевают противоположные соблазны, и ты не можешь между ними выбрать. (И уехать хочешь, и остаться, например.) На каждом шагу, где надо и не надо, я использовал слово «амбивалентность». Этот филологический термин, часто встречающийся в работах Бахтина и связанный с карнавальным, свободным пересмотром – смещением, смешением, взаимообменом ‒ затвердевших в обыденной жизни значений, помогал мне, как я понял много позднее, оправдывать собственную нетвёрдость, возводить её в принцип. Увлечённый химерой карнавализации, театрализации жизненного поведения, я не подозревал об опасности, которую она в себе содержит, ‒ опасности плюрализма в одной отдельно взятой голове. Я не знал, что «амбивалентность» ‒ это ещё и термин психиатрический, характеризующий разновидность душевной болезни. А вот Аля уже и тогда игру в амбивалентность очень не любила, по крайней мере, в моём исполнении. Наслушается иной раз этих оборотов, этих бесконечных «с одной стороны, с другой стороны» и «как бы на самом деле», да и скажет в сердцах (дома, мне одному): «Совсем тебе Зиник мозги запудрил! Сам-то хоть знаешь, что у тебя как бы, а что на самом деле?».
По части запудрить мозги Витя Зинику не уступал. Просто он был человеком другой школы, другой стилистики, да и такого влияния, как Зиник, на меня не оказывал: к моменту нашего знакомства новобранцем я уже не был.
Однажды, в начале нулевых (оба мы были в изрядном подпитии), он стал развивать свою теорию лавирования между разными правдами. Правда общих мест требует делать вид. Пылкость натуры не обнаруживать, держаться с холодком, чтобы в душу не лезли, но ровно, благожелательно со всеми. Дозировать внимание к людям в зависимости от их полезности для тебя и с точностью аптекарских весов (как делает Толя Смелянский, виртуоз этой техники). Не стесняться разумных трюизмов. Подавая на большой лопате, веско и красноречиво, то, с чем коллективное сознание согласно заведомо, прослывёшь человеком мыслящим крупно, проникающим в суть театральной эпохи. Это всё ‒ на поверхности. А на глубине – усреднённым и, стало быть, ложным критериям соответствовать нельзя ни в коем случае. Надо помнить: цену себе и другим ты назначаешь сам.
На трезвую голову я бы мог и придраться к петляющей принципиальности этой теории, оставляющей слишком широкое поле для практики игровых перебежек от одной правды к другой и обратно. Где граница между ними? Неумеренную лесть и все прочие выверты «романтического водевиля ложной искренности» по какому министерству правды проводить? Общих мест? Индивидуальных отклонений? И то и то возможно при желании. Однако, благодушествуя спьяну и нисколько не лицемеря (разве только совсем чуть-чуть), я закивал, закивал: так и есть, так и есть: выйдешь, на хрен, с открытым забралом, тут же в него и получишь.
Окончательный вывод (после стремянной и забугорной вновь потребовался посошок) мы доверили поэзии, прокричав в унисон:
‒ Молчи! Скрывайся!! И таи!!!
Пошатываясь больше моего, он заявил, что проводит меня до такси. Я воспротивился: в этом нет необходимости. Он продолжал настаивать: это долг благовоспитанного хозяина дома, а до такого плебейства, какое я ему предлагаю, он ни за что не опустится. Когда же до него наконец дошло, что вызванное такси ждёт у подъезда, то, внезапно помрачнев, он разразился полубессвязной негодующей речью. Дескать, не надейтесь: никто никого не ждёт! Не ищите понимания ни в таксистах, ни в артистах, ни в парадоксалистах! Ни в ком, ни в ком! Каждый сам по себе!
Невзирая на полученную отповедь, на этот пакостный пламень, достойный героя «Записок из подполья» (как раз Парадоксалиста – одной из лучших его ролей, сыгранной в спектакле Камы Гинкаса), домой я вернулся почему-то в приподнятом настроении. Разбудил среди ночи Алю: хотелось и её порадовать.
‒ Знаешь, я сегодня как никогда отчётливо понял: не всё потеряно.
‒ Сколько ты выпил?
‒ Не всё. Потому что мы умеем жить на глубине, но и скрываться нам незачем. И в этом наше счастье.
‒ Спать иди, счастье.
‒ Что же касается Тютчева… он человек поконченный.
‒ Боже мой! Что ты несёшь!
‒ Другому как сказать себя, он, видишь ли, не знает. А другого расслышать, откликнутся душой, по-человечески? Тоже нет. Один как перст. Что уж тут хорошего.
По части запудрить мозги Витя Зинику не уступал. Просто он был человеком другой школы, другой стилистики, да и такого влияния, как Зиник, на меня не оказывал: к моменту нашего знакомства новобранцем я уже не был.
Однажды, в начале нулевых (оба мы были в изрядном подпитии), он стал развивать свою теорию лавирования между разными правдами. Правда общих мест требует делать вид. Пылкость натуры не обнаруживать, держаться с холодком, чтобы в душу не лезли, но ровно, благожелательно со всеми. Дозировать внимание к людям в зависимости от их полезности для тебя и с точностью аптекарских весов (как делает Толя Смелянский, виртуоз этой техники). Не стесняться разумных трюизмов. Подавая на большой лопате, веско и красноречиво, то, с чем коллективное сознание согласно заведомо, прослывёшь человеком мыслящим крупно, проникающим в суть театральной эпохи. Это всё ‒ на поверхности. А на глубине – усреднённым и, стало быть, ложным критериям соответствовать нельзя ни в коем случае. Надо помнить: цену себе и другим ты назначаешь сам.
На трезвую голову я бы мог и придраться к петляющей принципиальности этой теории, оставляющей слишком широкое поле для практики игровых перебежек от одной правды к другой и обратно. Где граница между ними? Неумеренную лесть и все прочие выверты «романтического водевиля ложной искренности» по какому министерству правды проводить? Общих мест? Индивидуальных отклонений? И то и то возможно при желании. Однако, благодушествуя спьяну и нисколько не лицемеря (разве только совсем чуть-чуть), я закивал, закивал: так и есть, так и есть: выйдешь, на хрен, с открытым забралом, тут же в него и получишь.
Окончательный вывод (после стремянной и забугорной вновь потребовался посошок) мы доверили поэзии, прокричав в унисон:
‒ Молчи! Скрывайся!! И таи!!!
Пошатываясь больше моего, он заявил, что проводит меня до такси. Я воспротивился: в этом нет необходимости. Он продолжал настаивать: это долг благовоспитанного хозяина дома, а до такого плебейства, какое я ему предлагаю, он ни за что не опустится. Когда же до него наконец дошло, что вызванное такси ждёт у подъезда, то, внезапно помрачнев, он разразился полубессвязной негодующей речью. Дескать, не надейтесь: никто никого не ждёт! Не ищите понимания ни в таксистах, ни в артистах, ни в парадоксалистах! Ни в ком, ни в ком! Каждый сам по себе!
Невзирая на полученную отповедь, на этот пакостный пламень, достойный героя «Записок из подполья» (как раз Парадоксалиста – одной из лучших его ролей, сыгранной в спектакле Камы Гинкаса), домой я вернулся почему-то в приподнятом настроении. Разбудил среди ночи Алю: хотелось и её порадовать.
‒ Знаешь, я сегодня как никогда отчётливо понял: не всё потеряно.
‒ Сколько ты выпил?
‒ Не всё. Потому что мы умеем жить на глубине, но и скрываться нам незачем. И в этом наше счастье.
‒ Спать иди, счастье.
‒ Что же касается Тютчева… он человек поконченный.
‒ Боже мой! Что ты несёшь!
‒ Другому как сказать себя, он, видишь ли, не знает. А другого расслышать, откликнутся душой, по-человечески? Тоже нет. Один как перст. Что уж тут хорошего.
как важно быть серьёзным
Александра Петровича Свободина (вот уж кто был шестидесятник!) молодёжь журнала «Театр» семидесятых годов слегка (но только слегка) иронически называла наш либералиссимус.
Как-то раз, когда я был у него в гостях, ему позвонили из министерства культуры с предложением съездить в Ярославль, посмотреть новый спектакль в Театре имени Волкова и выступить перед труппой. Такие поездки были распространённым видом приработка, которым не гнушались и критики-первачи. Свободин, однако, удивился, спросил, согласована ли его кандидатура с Шишигиным, а когда услышал, что тому пока ещё не доложили, сказал: ну, тогда понятно. И, сославшись на занятость, отказался от поездки. Повесив трубку, Александр Петрович определил, что незнакомый ему и, как видно, только что принятый на работу министерский клерк – дурак с инициативой. Самодеятельность! Полный непрофессионализм! Надо же различать, кто какого направления, кто с кем несовместим!
Далее, как бы взобравшись на кафедру, он произнёс монолог, адресованный не столько мне, сколько незримому другу-читателю. Монолог о великом значении репутации; карьера, награды, звания – ничто, репутация – всё.
Хотя он не ждал от меня никаких подтверждений, я счёл необходимым подтвердить, что репутации бывают разные. Например. Все мыслящие люди понимают, что Свободин – это Свободин! А вот Шишигин, генерал идеологического фронта, сродни генералу Крутицкому с его трактатом «О вреде реформ вообще».
Мне представлялось, что эта аналогия с персонажем классической пьесы ‒ во вкусе нашего либералиссимуса, чрезмерно уповающего на эффективность нравственных уроков русской литературы. Но люди не всегда ведут себя сообразно расхожим представлениям о них. Александр Петрович бросил на меня и мгновенно отвёл растерянно-испытующий взгляд, в котором мелькнула догадка, что я просто пристраиваюсь, из вежливости, из той оскорбительной милости к чужому отжившему опыту, какая бывает свойственна начинающим жить.
И кафедру спешно покинул: тон переменил.
‒ Крутицкий – «тупость по убеждению», к тому же рамоли, маразматик. А в Шишигине ничего тупого и ничего смешного нет. Маразмирует сама действительность, а он лукавит, маскируется и понимает всё. Почти всё.
‒ Разве не может такого быть, что и Крутицкий маскируется и тоже понимает всё?
‒ Наверное, и такое прочтение допустимо, ‒ нехотя согласился Свободин. ‒ Но сути дела это не меняет. Всё равно над Крутицким закон комедии.
‒ А над Шишигиным какой закон? Трагедии, что ли?
‒ Конечно. Закон бурелома.
Этот диалог я по своему обыкновению записал, ну и забыл о нём напрочь. Теперь, по прошествии четырёх десятилетий, наткнулся на старую запись, разгребая завалы бумаг, хранящихся на антресолях с какой-то утраченной целью.
И вот что подумал.
Гвоздицкий и Свободин, люди разных поколений и предпочтений, по-разному подходили и к Шишигину. Социально-исторический подход, мало занимавший одного, другому был близок. Но при этом оба воспринимали Шишигина серьёзно. А я – глумливо. Почему? Для них он был живой человек, в большей или меньшей мере присутствующий в их жизни, и это неизбежное присутствие требовало продумывать слова, не бросать их на ветер, нести за них – а значит, и за себя – ответственность. Для меня же он был ‒ можно сказать по Пригову ‒ «махроть всея Руси». И только. Не человек, а концепт, утрированная тенденция. Знаком я с ним не был, вникать в его особенности, противоречия, в причины, породившие их, ничто меня не обязывало. Кроме одного, пожалуй (но этого я как раз не сознавал): довольствуясь исключительно чувственной реакцией, впадаешь в недомыслие и уплощаешь себя самого.
Должен сказать, что сквозь обычную идеологическую пургу, которую он нёс с трибуны, я подсознательно улавливал в нём – в его выразительной внешности, в его психотипе – что-то своеобычное: исконное, заковыристое, далёкое от актуальных задач. Улавливал какую-то припрятанную двойственность, бесконечно чуждую, враждебную моей – нашей, четверговой. Но не умел и не пытался вразумительно, не ёрничая, зафиксировать своё впечатление. Не обеспеченное дисциплиной мысли и навыками строгого отбора слов, оно оставалось неотчётливым, неизъяснимым. И, стало быть, неправомочным.
Теперь, когда мне столько же лет, сколько было тогда Шишигину, я мог бы кое-что подсказать тому молодому человеку, которому Феликс Берман советовал не лезть на рожон. Мне это было бы не так уж трудно, а ему – полезно. Но что толковать об этом. Он не услышит меня.
В иные времена Шишигин мог бы стоять на страже «православия, самодержавия, народности». А мог бы оказаться и раскольником, расстригой, проповедующим ересь.
Совместимость боголепия и богоотступничества, застрявшая в душе заноза достоевщины – вот что такое этот психотип, вот что такое эта двойственность. Недаром он годы и годы лелеял надежду пробить свой заветный (или, как любили говорить его антиподы-шестидесятники, исповедальный) замысел ‒ постановку «Бесов» Достоевского, которую так и не разрешила родная ему советская власть.
Как-то раз, когда я был у него в гостях, ему позвонили из министерства культуры с предложением съездить в Ярославль, посмотреть новый спектакль в Театре имени Волкова и выступить перед труппой. Такие поездки были распространённым видом приработка, которым не гнушались и критики-первачи. Свободин, однако, удивился, спросил, согласована ли его кандидатура с Шишигиным, а когда услышал, что тому пока ещё не доложили, сказал: ну, тогда понятно. И, сославшись на занятость, отказался от поездки. Повесив трубку, Александр Петрович определил, что незнакомый ему и, как видно, только что принятый на работу министерский клерк – дурак с инициативой. Самодеятельность! Полный непрофессионализм! Надо же различать, кто какого направления, кто с кем несовместим!
Далее, как бы взобравшись на кафедру, он произнёс монолог, адресованный не столько мне, сколько незримому другу-читателю. Монолог о великом значении репутации; карьера, награды, звания – ничто, репутация – всё.
Хотя он не ждал от меня никаких подтверждений, я счёл необходимым подтвердить, что репутации бывают разные. Например. Все мыслящие люди понимают, что Свободин – это Свободин! А вот Шишигин, генерал идеологического фронта, сродни генералу Крутицкому с его трактатом «О вреде реформ вообще».
Мне представлялось, что эта аналогия с персонажем классической пьесы ‒ во вкусе нашего либералиссимуса, чрезмерно уповающего на эффективность нравственных уроков русской литературы. Но люди не всегда ведут себя сообразно расхожим представлениям о них. Александр Петрович бросил на меня и мгновенно отвёл растерянно-испытующий взгляд, в котором мелькнула догадка, что я просто пристраиваюсь, из вежливости, из той оскорбительной милости к чужому отжившему опыту, какая бывает свойственна начинающим жить.
И кафедру спешно покинул: тон переменил.
‒ Крутицкий – «тупость по убеждению», к тому же рамоли, маразматик. А в Шишигине ничего тупого и ничего смешного нет. Маразмирует сама действительность, а он лукавит, маскируется и понимает всё. Почти всё.
‒ Разве не может такого быть, что и Крутицкий маскируется и тоже понимает всё?
‒ Наверное, и такое прочтение допустимо, ‒ нехотя согласился Свободин. ‒ Но сути дела это не меняет. Всё равно над Крутицким закон комедии.
‒ А над Шишигиным какой закон? Трагедии, что ли?
‒ Конечно. Закон бурелома.
Этот диалог я по своему обыкновению записал, ну и забыл о нём напрочь. Теперь, по прошествии четырёх десятилетий, наткнулся на старую запись, разгребая завалы бумаг, хранящихся на антресолях с какой-то утраченной целью.
И вот что подумал.
Гвоздицкий и Свободин, люди разных поколений и предпочтений, по-разному подходили и к Шишигину. Социально-исторический подход, мало занимавший одного, другому был близок. Но при этом оба воспринимали Шишигина серьёзно. А я – глумливо. Почему? Для них он был живой человек, в большей или меньшей мере присутствующий в их жизни, и это неизбежное присутствие требовало продумывать слова, не бросать их на ветер, нести за них – а значит, и за себя – ответственность. Для меня же он был ‒ можно сказать по Пригову ‒ «махроть всея Руси». И только. Не человек, а концепт, утрированная тенденция. Знаком я с ним не был, вникать в его особенности, противоречия, в причины, породившие их, ничто меня не обязывало. Кроме одного, пожалуй (но этого я как раз не сознавал): довольствуясь исключительно чувственной реакцией, впадаешь в недомыслие и уплощаешь себя самого.
Должен сказать, что сквозь обычную идеологическую пургу, которую он нёс с трибуны, я подсознательно улавливал в нём – в его выразительной внешности, в его психотипе – что-то своеобычное: исконное, заковыристое, далёкое от актуальных задач. Улавливал какую-то припрятанную двойственность, бесконечно чуждую, враждебную моей – нашей, четверговой. Но не умел и не пытался вразумительно, не ёрничая, зафиксировать своё впечатление. Не обеспеченное дисциплиной мысли и навыками строгого отбора слов, оно оставалось неотчётливым, неизъяснимым. И, стало быть, неправомочным.
Теперь, когда мне столько же лет, сколько было тогда Шишигину, я мог бы кое-что подсказать тому молодому человеку, которому Феликс Берман советовал не лезть на рожон. Мне это было бы не так уж трудно, а ему – полезно. Но что толковать об этом. Он не услышит меня.
В иные времена Шишигин мог бы стоять на страже «православия, самодержавия, народности». А мог бы оказаться и раскольником, расстригой, проповедующим ересь.
Совместимость боголепия и богоотступничества, застрявшая в душе заноза достоевщины – вот что такое этот психотип, вот что такое эта двойственность. Недаром он годы и годы лелеял надежду пробить свой заветный (или, как любили говорить его антиподы-шестидесятники, исповедальный) замысел ‒ постановку «Бесов» Достоевского, которую так и не разрешила родная ему советская власть.
по закону бурелома
Однажды Шишигин поведал своим студентам притчу. Её слово в слово записала Людмила Зотова, сокурсница Гвоздицкого.
«‒ Хотите, я расскажу вам, кто я такой? Встретились Кривда и Правда. Считайте, что Правдой был я. "Пошли в ресторан, ‒ сказала Кривда, ‒ загуляем". Погуляли. К Кривде подходит официант: "Плати, Кривда". – "Оплачено", ‒ говорит она. – "Ты Кривда, я тебе не верю". – "Тогда у Правды спроси". И Правда сказала: "Да, оплачено".
Затем Шишигин добавил:
‒ Если поймёте что-нибудь из этой истории, может быть, поймёте и что-нибудь про меня» [Там же. С. 22].
«‒ Хотите, я расскажу вам, кто я такой? Встретились Кривда и Правда. Считайте, что Правдой был я. "Пошли в ресторан, ‒ сказала Кривда, ‒ загуляем". Погуляли. К Кривде подходит официант: "Плати, Кривда". – "Оплачено", ‒ говорит она. – "Ты Кривда, я тебе не верю". – "Тогда у Правды спроси". И Правда сказала: "Да, оплачено".
Затем Шишигин добавил:
‒ Если поймёте что-нибудь из этой истории, может быть, поймёте и что-нибудь про меня» [Там же. С. 22].
***
На вопрос газеты «Известия», «чего вы больше всего желали бы своему Отечеству?», Фирс Ефимович ответил, что больше всего желал бы «победы мировой революции».
Это опубликовано 4 января 1982 года.
Такой ответ можно назвать бредовым, но никак не конъюнктурным. У конъюнктурной бредятины поздних брежневских лет характер вялотекущий, а тут ‒ горячечный. С большим приветом из ранних двадцатых, из его молодости.
Это была молодость, полная огня: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Молодость, облачённая в синюю прозодежду: «Мы синеблузники, мы профсоюзники, мы не баяны-соловьи. Мы только гайки в великой спайке одной трудящейся семьи». Правда, прежде чем сделаться гайкой, свято верующей в пожар, Фирс, раб Божий, Христа возлюбил, с детства Ему молился. Родившись в 1908-м, в Архангельской губернии, в семье крестьянина, потомственного старообрядца (мать была, по его выражению, «нормальной христианкой»), он успел окончить церковно-приходскую школу.
То, что было заложено в нём генетически; то, что воспитывалось в детские годы, исказилось, изуродовалось, но не исчезло бесследно, а как бы вывернулось наизнанку. Не знаю, какие он находил – для себя самого – аргументы, чтобы оправдывать уничтожение всех оснований народной – и своей собственной – жизни. Да это и не так важно. Важнее, что движущая сила уничтожения из самих этих оснований и возникла. Великая спайка одной трудящейся семьи – перевёртыш злополучной российской соборности. Самоубийственной мечты.
Вот некоторые факты его биографии.
1925-1929. Учится на режиссёрском отделении Ленинградского техникума (института) сценических искусств. Педагоги – Сергей Радлов, Владимир Соловьёв, Леонид Вивьен ‒ люди мейерхольдовской школы. Кумиры молодости – Мейерхольд, Маяковский, Пастернак. Друзья молодости – Колька, Борька, Митька ‒ Николай Черкасов, Борис Чирков, Дмитрий Шостакович.
1928 – 1932. Вместе с Т. Иониным (не знаю, кто это) и Александром Прейсом (впоследствии известным либреттистом, соавтором либретто оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», погибшим, защищая Ленинград в 1942-м), организует Театр классических миниатюр, на счету которого – единственный спектакль: «Театр Клары Газуль» Проспера Мериме (режиссёрский дебют Шишигина). Работает в ТРАМе (Театре рабочей молодёжи), где энтузиазму сталинизма пока ещё сопутствует энтузиазм эксцентризма. Что очень скоро станет невозможным: все площадные, балаганные формы зрелищ будут задушены и надолго забыты.
1933 ‒ 1937. Руководит Театром Особой Дальневосточной Красной армии, которой командует маршал Блюхер. Успевает выпустить курс студийцев – первых своих учеников, влюблённых в него.
1937 (1938?). Арестован в числе руководящих кадров из окружения маршала. Аресты этих людей, обвинённых в антисоветском заговоре, начинаются задолго до октября 1938-го, когда арестовывают самого Блюхера. 9 ноября того же года этот военачальник, сталинский палач, он же сталинская жертва, погибает в застенках Лубянки.
1939. Шишигин освобождён и восстановлен в правах.
Как объяснить этот факт?
Обращаюсь к статье ярославского критика и историка театра Маргариты Ваняшовой «Парадоксы и прозрения Фирса Шишигина» (газета «Северный край», 24 сентября 2008).
«Он был упрям и не сдавался. Написал пять писем Сталину, отстаивал свою правоту. Вряд ли помогли письма, скорее всего Шишигин был отнесён к необоснованным жертвам ежовских репрессий (нарком НКВД Ежов к тому времени был расстрелян)».
1939 – 1945. Вернувшись в Уссурийск, где базировался театр, откуда его забрали, вынужден работать со своими учениками-актёрами, теми самыми, влюблёнными в своего учителя студийцами, которые (об этом он узнал на допросах) дали против него показания, все как один подписали всё. Он их видеть не может, а деваться некуда. Наконец удаётся добиться перевода в Спасск, потом во Владивосток.
Прежде чем отдать четверть века Ярославлю (1960–1985), Шишигин возглавляет театр в Ставрополе (1946), в Сталинграде (1950–1956), в Воронеже (1956–1960).
Единственная попытка закрепиться в столице, неудачная, ‒ Театр драмы и комедии. Здесь он стоит у руля с 1947-го по 1950-й. Театрик завалящий, безнадёжный. Адрес один чего стоит: Таганский тупик. То ли дело Сталинград! Там размах гигантский! Театр, отстроенный после Победы, ‒ весь в граните и мраморе!
В 1964-м в Таганском тупике появится Юрий Любимов со своим выпускным курсом. Повесит в фойе портреты Станиславского, Вахтангова, Брехта… и рядом с ними – портрет реабилитированного Мейерхольда.
На равных?!
Мейерхольд! Молодость. Театральный Октябрь. Мировой пожар. Земля дыбом [«Земля дыбом» ‒ спектакль Мейерхольда, посвящённый «Красной Армии и Первому Красноармейцу РСФСР Льву Троцкому»]. Голова кругом. Враг народа. Партия признаёт свои ошибки. Народ и партия едины. Ленин всегда впереди. Поверх барьеров. Наша идеология. Не наша идеология. С кем вы, поганки с Таганки. Формалистический раёк. Шпана с гитарой. Ничего святого.
Это опубликовано 4 января 1982 года.
Такой ответ можно назвать бредовым, но никак не конъюнктурным. У конъюнктурной бредятины поздних брежневских лет характер вялотекущий, а тут ‒ горячечный. С большим приветом из ранних двадцатых, из его молодости.
Это была молодость, полная огня: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Молодость, облачённая в синюю прозодежду: «Мы синеблузники, мы профсоюзники, мы не баяны-соловьи. Мы только гайки в великой спайке одной трудящейся семьи». Правда, прежде чем сделаться гайкой, свято верующей в пожар, Фирс, раб Божий, Христа возлюбил, с детства Ему молился. Родившись в 1908-м, в Архангельской губернии, в семье крестьянина, потомственного старообрядца (мать была, по его выражению, «нормальной христианкой»), он успел окончить церковно-приходскую школу.
То, что было заложено в нём генетически; то, что воспитывалось в детские годы, исказилось, изуродовалось, но не исчезло бесследно, а как бы вывернулось наизнанку. Не знаю, какие он находил – для себя самого – аргументы, чтобы оправдывать уничтожение всех оснований народной – и своей собственной – жизни. Да это и не так важно. Важнее, что движущая сила уничтожения из самих этих оснований и возникла. Великая спайка одной трудящейся семьи – перевёртыш злополучной российской соборности. Самоубийственной мечты.
Вот некоторые факты его биографии.
1925-1929. Учится на режиссёрском отделении Ленинградского техникума (института) сценических искусств. Педагоги – Сергей Радлов, Владимир Соловьёв, Леонид Вивьен ‒ люди мейерхольдовской школы. Кумиры молодости – Мейерхольд, Маяковский, Пастернак. Друзья молодости – Колька, Борька, Митька ‒ Николай Черкасов, Борис Чирков, Дмитрий Шостакович.
1928 – 1932. Вместе с Т. Иониным (не знаю, кто это) и Александром Прейсом (впоследствии известным либреттистом, соавтором либретто оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», погибшим, защищая Ленинград в 1942-м), организует Театр классических миниатюр, на счету которого – единственный спектакль: «Театр Клары Газуль» Проспера Мериме (режиссёрский дебют Шишигина). Работает в ТРАМе (Театре рабочей молодёжи), где энтузиазму сталинизма пока ещё сопутствует энтузиазм эксцентризма. Что очень скоро станет невозможным: все площадные, балаганные формы зрелищ будут задушены и надолго забыты.
1933 ‒ 1937. Руководит Театром Особой Дальневосточной Красной армии, которой командует маршал Блюхер. Успевает выпустить курс студийцев – первых своих учеников, влюблённых в него.
1937 (1938?). Арестован в числе руководящих кадров из окружения маршала. Аресты этих людей, обвинённых в антисоветском заговоре, начинаются задолго до октября 1938-го, когда арестовывают самого Блюхера. 9 ноября того же года этот военачальник, сталинский палач, он же сталинская жертва, погибает в застенках Лубянки.
1939. Шишигин освобождён и восстановлен в правах.
Как объяснить этот факт?
Обращаюсь к статье ярославского критика и историка театра Маргариты Ваняшовой «Парадоксы и прозрения Фирса Шишигина» (газета «Северный край», 24 сентября 2008).
«Он был упрям и не сдавался. Написал пять писем Сталину, отстаивал свою правоту. Вряд ли помогли письма, скорее всего Шишигин был отнесён к необоснованным жертвам ежовских репрессий (нарком НКВД Ежов к тому времени был расстрелян)».
1939 – 1945. Вернувшись в Уссурийск, где базировался театр, откуда его забрали, вынужден работать со своими учениками-актёрами, теми самыми, влюблёнными в своего учителя студийцами, которые (об этом он узнал на допросах) дали против него показания, все как один подписали всё. Он их видеть не может, а деваться некуда. Наконец удаётся добиться перевода в Спасск, потом во Владивосток.
Прежде чем отдать четверть века Ярославлю (1960–1985), Шишигин возглавляет театр в Ставрополе (1946), в Сталинграде (1950–1956), в Воронеже (1956–1960).
Единственная попытка закрепиться в столице, неудачная, ‒ Театр драмы и комедии. Здесь он стоит у руля с 1947-го по 1950-й. Театрик завалящий, безнадёжный. Адрес один чего стоит: Таганский тупик. То ли дело Сталинград! Там размах гигантский! Театр, отстроенный после Победы, ‒ весь в граните и мраморе!
В 1964-м в Таганском тупике появится Юрий Любимов со своим выпускным курсом. Повесит в фойе портреты Станиславского, Вахтангова, Брехта… и рядом с ними – портрет реабилитированного Мейерхольда.
На равных?!
Мейерхольд! Молодость. Театральный Октябрь. Мировой пожар. Земля дыбом [«Земля дыбом» ‒ спектакль Мейерхольда, посвящённый «Красной Армии и Первому Красноармейцу РСФСР Льву Троцкому»]. Голова кругом. Враг народа. Партия признаёт свои ошибки. Народ и партия едины. Ленин всегда впереди. Поверх барьеров. Наша идеология. Не наша идеология. С кем вы, поганки с Таганки. Формалистический раёк. Шпана с гитарой. Ничего святого.
***
Маргарита Ваняшова описывает следующий случай.
«Однажды Фирс Шишигин ехал в электричке из Ярославля в Москву. Где-то в Ростове в вагон вошла старушка, весь вид которой указывал на её богомольность. Она осмотрела пассажиров. Взгляд её остановился на величественном облике Шишигина, с его осанистостью и внушительной бородой. Приблизившись, она низко поклонилась и поцеловала ему руку… Весь вагон молчаливо наблюдал за этой сценой. Шишигин, как будто это было его привычным занятием, осенил старушку крестом, благословил её, тихо и сокровенно побеседовал с ней, говоря слышимое только ей одной, дал несколько умиротворяющих наставлений: "Пусть осенит тебя Благодать Божия… Да избавит тебя Господь от скорбей, от болезней, исцелит скорби духовные и телесные… Иди с миром, дщерь моя…". Она отошла от него, благостная и ободрённая.
Рассказывая мне об этом происшествии, он говорил, что не кощунствовал, а органически бессознательно включился в предлагаемые обстоятельства… И словно бы спрашивал, велик ли был его грех:
‒ Видишь, какие чудеса бывают на белом свете… За архиерея приняла, не иначе… Руку поцеловала… Неужто отталкивать?».
«Однажды Фирс Шишигин ехал в электричке из Ярославля в Москву. Где-то в Ростове в вагон вошла старушка, весь вид которой указывал на её богомольность. Она осмотрела пассажиров. Взгляд её остановился на величественном облике Шишигина, с его осанистостью и внушительной бородой. Приблизившись, она низко поклонилась и поцеловала ему руку… Весь вагон молчаливо наблюдал за этой сценой. Шишигин, как будто это было его привычным занятием, осенил старушку крестом, благословил её, тихо и сокровенно побеседовал с ней, говоря слышимое только ей одной, дал несколько умиротворяющих наставлений: "Пусть осенит тебя Благодать Божия… Да избавит тебя Господь от скорбей, от болезней, исцелит скорби духовные и телесные… Иди с миром, дщерь моя…". Она отошла от него, благостная и ободрённая.
Рассказывая мне об этом происшествии, он говорил, что не кощунствовал, а органически бессознательно включился в предлагаемые обстоятельства… И словно бы спрашивал, велик ли был его грех:
‒ Видишь, какие чудеса бывают на белом свете… За архиерея приняла, не иначе… Руку поцеловала… Неужто отталкивать?».
запретный плод
Московской электричкой студенты пользовались часто. В основном по выходным, а то и пропуская день занятий, чтобы попасть в столичный театр. Приедут, прорвутся на спектакль по студенческому удостоверению, а последней, ночной электричкой – обратно в Ярославль. Это было в порядке вещей, педагоги не препятствовали такой любознательности: будущие актёры должны быть насмотрены. МХАТ, Малый, Вахтанговский, Моссовета, даже Современник, хотя он, конечно, спорный ‒ всё в копилку, на пользу. За одним исключением! Смотреть спектакли Таганки Шишигин запрещал категорически. Нарушителей запрета грозил отчислить. Запретный плод, однако, сладок, и Витя чаще всего нацеливался как раз на Таганку. Стоя на балконе, в тесноте и духоте, среди таких же зрителей, как он, ‒ самозабвенных, осчастливленных пропуском без места, ‒ весь репертуар пересмотрел. А «Доброго человека из Сезуана» раза три, не меньше, ‒ заворожённый и озадаченный неправильной игрой Зинаиды Славиной.
На Таганке всё было неправильным; всё вопреки тому, как в Ярославле учили играть и как в других театрах играли. Но Славина казалась неправильной даже по сравнению с актёрами Таганки. Хорошо ли она играла, не имело значения, не замечалось вообще. Потому что играла, как никто не играет, как играть нельзя: неприлично. Напирала больше всех. С такой силой, с такой страстью!.. Да, но с какой такой? И Высоцкому, и Губенко силы и страсти тоже было не занимать, но они как-то вписывались в общий поток электричества, а она – с особым зарядом, с особым переключателем высокого напряжения. Отдельная совсем.
Что же это всё-таки было? Витя сказать не мог.
А вот что было.
«…дикий разбег, неукрощённая повадка… исступлённые крики… нещадная растрата нервной энергии и душевных сил… восстание старинного актёрского театра, поддержанное современным режиссёром. Крик Славиной — искаженное, бывшее пение».
Эти слова, сами напоминающие пение, Витя вычитал в журнале «Театр» (№ 2, 1968), в статье об актрисе за подписью В. Гаевский. Кто такой В. Гаевский, он понятия не имел. О том, что такой журнал существует, тоже не знал, пока не увидел его в библиотеке училища. А главное, он раньше не догадывался, что театральное впечатление можно выразить так красиво. Роскошно!
Роскошные слова, понятные и не очень, он выписал в тетрадочку, тем самым пытаясь избавиться от осознанной вдруг немоты.
На Таганке всё было неправильным; всё вопреки тому, как в Ярославле учили играть и как в других театрах играли. Но Славина казалась неправильной даже по сравнению с актёрами Таганки. Хорошо ли она играла, не имело значения, не замечалось вообще. Потому что играла, как никто не играет, как играть нельзя: неприлично. Напирала больше всех. С такой силой, с такой страстью!.. Да, но с какой такой? И Высоцкому, и Губенко силы и страсти тоже было не занимать, но они как-то вписывались в общий поток электричества, а она – с особым зарядом, с особым переключателем высокого напряжения. Отдельная совсем.
Что же это всё-таки было? Витя сказать не мог.
А вот что было.
«…дикий разбег, неукрощённая повадка… исступлённые крики… нещадная растрата нервной энергии и душевных сил… восстание старинного актёрского театра, поддержанное современным режиссёром. Крик Славиной — искаженное, бывшее пение».
Эти слова, сами напоминающие пение, Витя вычитал в журнале «Театр» (№ 2, 1968), в статье об актрисе за подписью В. Гаевский. Кто такой В. Гаевский, он понятия не имел. О том, что такой журнал существует, тоже не знал, пока не увидел его в библиотеке училища. А главное, он раньше не догадывался, что театральное впечатление можно выразить так красиво. Роскошно!
Роскошные слова, понятные и не очень, он выписал в тетрадочку, тем самым пытаясь избавиться от осознанной вдруг немоты.
режиссёр-полководец
Отношение Шишигина к Таганке и отвечало официозной бдительности (причём радикальной, мракобесной), и отличалось от неё. Официоз бестрепетен, убийственно хладнокровен. А тут было чувство. Личное, страстное, потаённо ревнивое. Подобное неразделённой или обманутой любви, переродившейся в ненависть.
Прямых доказательств у меня нет. Но можно представить себе, какими глазами смотрел он «Десять дней, которые потрясли мир», народный балаган, лихое действо, где в духе двадцатых годов, стирая границу между актёрами и публикой, между искусством и жизнью, театр стремился на площадь и славил восстание масс как очищение от скверны. Разве он, Шишигин, не к тому же стремился в ТРАМе под началом Адриана Пиотровского (расстрелянного в тридцать седьмом)?! Разве не твердил, как «Отче наш», вторя революционному девизу Мейерхольда: «Рампа – мой враг»?!
Уже только поэтому Таганка не могла быть прощена. Трудно простить чужую судьбу, которая могла бы быть твоей при более благоприятных обстоятельствах.
Но отпечатки давнего греха, этой ужасной тайны правоверного реалиста, проступали – неявно, но всё-таки – и в его собственных спектаклях. Как бы ни клеймил он фрондёров-шестидесятников, с приходом десталинизации (пускай краткосрочной, частичной) послабление вышло не только ведь либералам, но и таким, как он. И когда страна немного оттаяла, его онемевшая память тоже заговорила: стала подпитывать творчество.
В спектакле «Фёдор Волков», где Шишигин с полным знанием предмета сочинил развёрнутую сцену крестного хода (что по тем временам само по себе читалось как вызов), он разрушил «четвёртую стену». Рампу победил! Фронтально выстроенная масса людей с иконами и хоругвями, начиная движение из глубины, медленно, неумолимо надвигалась на зрителей, так что казалось, и край просцениума её не остановит. Динамичные гигантские массовки были его коньком. Наряду со всей труппой, актёрами основного и вспомогательного состава, он занимал в них и студентов всех курсов, и даже солдат подшефных театру частей. «Массовкой он командовал как полководец армией, ‒ пишет Гвоздицкий. ‒ Такие спектакли, как "Царь Юрий", "Фёдор Волков", "Панфиловцы", "Мятеж на Волге" (вот она, бездна забвения! ‒ Примеч. В.С.), были делом обычным <…> батальные сцены, гран-дипломатические приёмы и коронации государей. Толпа получалась невероятная! Казалось, наступил 1812 год. Или 1941-й… Эти сцены состояли из такого количества разных людей, что сегодня они ассоциируются с полотнами Питера Брука и Арианы Мнушкиной – многонациональными, густонаселёнными: люди, живые лошади, мумии…» [Виктор Гвоздицкий. Последние. М., 2007. С. 17] .
Насчёт Брука и Мнушкиной – не уверен. Сходство если и есть, то чисто внешнее: количественное, а не качественное. Толпа у них – в отличие от шишигинской ‒ сила тёмная, вулканической природы. Извержение вулкана не подлежит сочувственным или осуждающим оценкам, не бывает справедливым или несправедливым. Оно бывает только страшным.
Мне кажется, уместней заметить отдалённое родство массовок Шишигина с экспрессионистским политическим театром (опять же двадцатых годов), признававшим за человеком-массой право быть высшим судиёй. Впрочем, было и родство куда более близкое – со сталинским ампиром, с его помпезностью и фальшивым историзмом. Оно проявлялось в том, что этот высший судия вверял свою судьбу радетелю-заступнику, отцу родному, пастырю (монарху или военачальнику) и, ведомый им, непогрешимым, укреплял государство Российское. Схема могла видоизменяться. Включать в себя мотив Русской Смуты, самозванцев на троне, или конфликт художника с временщиками. Но державному духу любые испытания на прочность были как слону дробинка. И Волков, основатель русского театра, и Некрасов, поэт-гражданин, выходили на сцену с одной заботой: посрамить клеветников России. И, несмотря на тягостный гнёт, им это всегда удавалось. Секрет их был прост: они не замыкались в узком индивидуалистическом мирке. Общую с народом думу думали, в общую веру веровали и мечтали русскую мечту. И, устремляясь орлиным взором далеко-далеко, прозревали там, за горизонтом (в районе верхнего яруса), светоносное завтра Отечества нашего.
Маргарите Ваняшовой, чьи театральные вкусы формировались под влиянием личности Шишигина, запомнилось, что «в его спектаклях была неслыханная дерзость, в репетициях – небывало мощная концентрация духовной энергии…». Допустим, так и было. Но если за этим и стояла какая-то правда, ‒ правда борьбы хороших людей с плохими, ‒ то она была всё-таки кривдой оплачена. Потому что борьбу человека с самим собой, главную битву жизни, режиссёр-полководец на публику не выносил.
Прямых доказательств у меня нет. Но можно представить себе, какими глазами смотрел он «Десять дней, которые потрясли мир», народный балаган, лихое действо, где в духе двадцатых годов, стирая границу между актёрами и публикой, между искусством и жизнью, театр стремился на площадь и славил восстание масс как очищение от скверны. Разве он, Шишигин, не к тому же стремился в ТРАМе под началом Адриана Пиотровского (расстрелянного в тридцать седьмом)?! Разве не твердил, как «Отче наш», вторя революционному девизу Мейерхольда: «Рампа – мой враг»?!
Уже только поэтому Таганка не могла быть прощена. Трудно простить чужую судьбу, которая могла бы быть твоей при более благоприятных обстоятельствах.
Но отпечатки давнего греха, этой ужасной тайны правоверного реалиста, проступали – неявно, но всё-таки – и в его собственных спектаклях. Как бы ни клеймил он фрондёров-шестидесятников, с приходом десталинизации (пускай краткосрочной, частичной) послабление вышло не только ведь либералам, но и таким, как он. И когда страна немного оттаяла, его онемевшая память тоже заговорила: стала подпитывать творчество.
В спектакле «Фёдор Волков», где Шишигин с полным знанием предмета сочинил развёрнутую сцену крестного хода (что по тем временам само по себе читалось как вызов), он разрушил «четвёртую стену». Рампу победил! Фронтально выстроенная масса людей с иконами и хоругвями, начиная движение из глубины, медленно, неумолимо надвигалась на зрителей, так что казалось, и край просцениума её не остановит. Динамичные гигантские массовки были его коньком. Наряду со всей труппой, актёрами основного и вспомогательного состава, он занимал в них и студентов всех курсов, и даже солдат подшефных театру частей. «Массовкой он командовал как полководец армией, ‒ пишет Гвоздицкий. ‒ Такие спектакли, как "Царь Юрий", "Фёдор Волков", "Панфиловцы", "Мятеж на Волге" (вот она, бездна забвения! ‒ Примеч. В.С.), были делом обычным <…> батальные сцены, гран-дипломатические приёмы и коронации государей. Толпа получалась невероятная! Казалось, наступил 1812 год. Или 1941-й… Эти сцены состояли из такого количества разных людей, что сегодня они ассоциируются с полотнами Питера Брука и Арианы Мнушкиной – многонациональными, густонаселёнными: люди, живые лошади, мумии…» [Виктор Гвоздицкий. Последние. М., 2007. С. 17] .
Насчёт Брука и Мнушкиной – не уверен. Сходство если и есть, то чисто внешнее: количественное, а не качественное. Толпа у них – в отличие от шишигинской ‒ сила тёмная, вулканической природы. Извержение вулкана не подлежит сочувственным или осуждающим оценкам, не бывает справедливым или несправедливым. Оно бывает только страшным.
Мне кажется, уместней заметить отдалённое родство массовок Шишигина с экспрессионистским политическим театром (опять же двадцатых годов), признававшим за человеком-массой право быть высшим судиёй. Впрочем, было и родство куда более близкое – со сталинским ампиром, с его помпезностью и фальшивым историзмом. Оно проявлялось в том, что этот высший судия вверял свою судьбу радетелю-заступнику, отцу родному, пастырю (монарху или военачальнику) и, ведомый им, непогрешимым, укреплял государство Российское. Схема могла видоизменяться. Включать в себя мотив Русской Смуты, самозванцев на троне, или конфликт художника с временщиками. Но державному духу любые испытания на прочность были как слону дробинка. И Волков, основатель русского театра, и Некрасов, поэт-гражданин, выходили на сцену с одной заботой: посрамить клеветников России. И, несмотря на тягостный гнёт, им это всегда удавалось. Секрет их был прост: они не замыкались в узком индивидуалистическом мирке. Общую с народом думу думали, в общую веру веровали и мечтали русскую мечту. И, устремляясь орлиным взором далеко-далеко, прозревали там, за горизонтом (в районе верхнего яруса), светоносное завтра Отечества нашего.
Маргарите Ваняшовой, чьи театральные вкусы формировались под влиянием личности Шишигина, запомнилось, что «в его спектаклях была неслыханная дерзость, в репетициях – небывало мощная концентрация духовной энергии…». Допустим, так и было. Но если за этим и стояла какая-то правда, ‒ правда борьбы хороших людей с плохими, ‒ то она была всё-таки кривдой оплачена. Потому что борьбу человека с самим собой, главную битву жизни, режиссёр-полководец на публику не выносил.
не нашего прихода человечек
Дело было на первом курсе. Занимались этюдами на память физических действий. Шишигин вызвал Витю, дал задание слепить воображаемый пельмень. Витя стал лепить. Долго лепил, подробно. Сделал последний загиб теста и сел, ожидая, что скажет мастер.
Прошла целая вечность, которая потребовалась мастеру, чтобы осмыслить испытанное им потрясение. Наконец он обрёл дар речи:
‒ Что это ты мне тут налепил? Что это за пельмень такой, со стакан величиной? Ты пельмени видел?
‒ Нет.
‒ Никогда?.. Ты с луны свалился?
Заподозренный во лжи, Витя сказал от чистого сердца:
‒ У нас в Кропоткине ели только вареники.
Не сработало. Мастер в гневе перешёл на крик:
‒ Какие вареники?!
‒ С вишнями.
Тут мастеру опять потребовалась вечность. Видно, не мог решить, кто же всё-таки перед ним – жулик или настоящий идиот.
‒ Я думал… пельмени… просто другое название… того же самого.
А вот этот сдавленный шёпот, с затруднённым дыханием, ‒ сработал, будьте нате.
‒ Южный человек, ‒ подытожил мастер. Как если бы окончательно убедился, что такой человек – с луны.
В письменном виде эпизод с пельменем-вареником Гвоздицкий воспроизвёл без комментариев от себя. В устном же рассказе на ту же тему роль комментария играла интонация. Иронически многозначительная, притворно скорбная, она придавала забавному и в общем-то пустяковому случаю масштаб экзистенциального абсурда, заложники которого – мы все! ‒ друг для друга непознаваемы.
Иногда Витя не понимал или делал вид, что не понимает, в чём его заподозрили. Но интуиция подсказывала: хотят подловить, надо быть начеку.
Лидия Яковлевна Макарова, жена Фирса Ефимовича, актриса и педагог по прозвищу Мася, неоднократно подкатывалась с вопросом:
‒ Кто твоя мама?
Он всякий раз отвечал:
‒ Учитель математики.
‒ Не это я имела в виду.
Уточнить, что она имела в виду национальность, Лидия Яковлевна не решалась: студентик, мальчик ещё совсем, смотрел ей в глаза так прямо, так преданно, так невинно! Ей было невдомёк, что он считает её не по делу приставучей и не прочь посмеяться над ней.
Как-то раз, заглянув ненароком в пустую аудиторию, он обнаружил там Масю. Она сидела за столом в шикарной широкополой шляпе, которую (об этом знали все!) Фирс привёз ей из Парижа, и, разбивая кулачком грецкие орехи, сосредоточенно их поглощала. Витя счёл за благо удалиться незамеченным, а потом сделал из увиденного пародию, посредством которой надеялся повысить свой авторитет среди студентов и особенно студенток, несмотря на огромный риск (настучали бы Фирсу – и крышка!).
Был случай, когда по какому-то поводу (Вите казалось, что без всякого повода) Шишигин сделал ему внушение:
‒ Гвоздицкий, ты слишком развязен. Учти это.
‒ Что я должен учесть, Фирс Ефимович? Что именно?
‒ Да вот и подтверждение. Когда б ты не был так развязен, не стал бы допытываться, что именно. Просто принял бы к сведению. Скромно. Молча. Понятно тебе?
Витя не ответил.
Я, кажется, задал тебе вопрос. Что молчишь?
‒ Вы же сами сказали: молча. Вот я и молчу.
‒ Доиграешься.
В конце первого курса он почти доигрался. Стало известно, что из фотопортрета народного артиста РСФСР Владимира Алексеевича Солопова, запечатлённого в гриме Печорина и смотревшего в объектив с подобающей лишнему человеку глубочайшей тоской по высокому предназначению, студент Гвоздицкий вырезал глаз и повесил его у себя над кроватью. Когда о кощунственной выходке доложили Шишигину, тот рассвирепел и велел подготовить приказ об отчислении. Не миновать бы Вите участи лишнего человека, когда бы сам пострадавший не взялся его защищать. (На правах корифея, служившего под началом Фирса ещё в Воронеже, Владимир Алексеевич мог позволить себе иметь особое мнение, а иной раз даже высказать его.) В разговоре один на один он привёл свои аргументы. Во-первых, портрет уже три года пылился на шкафу в общежитии, всеми забытый, бесхозный. Во-вторых, субъективно мальчик не кощунствовал, а священнодействовал; глаз этот – всевидящее око искусства – следует понимать как наивный символ, икону своего рода. И наконец, в спектакле «Мадемуазель Нитуш», который он, Солопов, готовит со своим ‒ вторым ‒ курсом, первокурсник Гвоздицкий необходим. Первые два аргумента не убедили Шишигина. Священнодейство дикаря не что иное, как святотатство. Нельзя экспроприировать то, что тебе не принадлежит. Нашёл портрет в пыли – вытри пыль, принеси реликвию в деканат или в литчасть театра. А он что сделал?! На что руку поднял?! Если он до сих пор не усвоил, что театр памятью жив, исторической памятью, которую надо беречь как зеницу ока, то и делать ему здесь нечего. Здесь святотатцам не место! С третьим же аргументом Шишигин (вот и пойми его) неожиданно согласился; для французской оперетки мальчишка и впрямь подходит. Весь следующий учебный год спасённый святотатец «скакал счастливым козлом» (его слова) в роли опереточного гусара, безымянного и бессловесного. Стоит ли добавлять, что этот гусар, никому не нужный, был сочинён Владимиром Алексеевичем исключительно из человеколюбия.
В конце второго курса Шишигин опять порывался Витю отчислить. И опять-таки ставил в вину небрежение исторической памятью. На экзамене по истории Гвоздицкий перепутал народников с народовольцами. Да не то беда, что перепутал. А то, что по глазам его читалось: плевать он хотел и на тех, и на этих.
Фирса все студенты боялись. Витя, похоже, больше всех. Увидев вдалеке, в конце коридора, на всякий пожарный поворачивал вспять. Однажды тот засёк его на противоходе, окликнул, подозвал к себе и, не сердясь, не хмурясь, а с хитрецой, с миролюбивой подначкой (но в голосе Фирса, «негромком, хриплом, пробирающем до печёнок», даже при безоблачной погоде Витя слышал раскаты грома):
‒ Думаешь, я не вижу, как ты всё время норовишь от меня ушмыгнуть? Давай выкладывай, где набедокурил.
‒ Нигде.
‒ Неужто ничего не натворил?
‒ Ничего.
‒ Так и не прячься тогда. Для чего же прятаться, коли совесть чиста?
Прошла целая вечность, которая потребовалась мастеру, чтобы осмыслить испытанное им потрясение. Наконец он обрёл дар речи:
‒ Что это ты мне тут налепил? Что это за пельмень такой, со стакан величиной? Ты пельмени видел?
‒ Нет.
‒ Никогда?.. Ты с луны свалился?
Заподозренный во лжи, Витя сказал от чистого сердца:
‒ У нас в Кропоткине ели только вареники.
Не сработало. Мастер в гневе перешёл на крик:
‒ Какие вареники?!
‒ С вишнями.
Тут мастеру опять потребовалась вечность. Видно, не мог решить, кто же всё-таки перед ним – жулик или настоящий идиот.
‒ Я думал… пельмени… просто другое название… того же самого.
А вот этот сдавленный шёпот, с затруднённым дыханием, ‒ сработал, будьте нате.
‒ Южный человек, ‒ подытожил мастер. Как если бы окончательно убедился, что такой человек – с луны.
В письменном виде эпизод с пельменем-вареником Гвоздицкий воспроизвёл без комментариев от себя. В устном же рассказе на ту же тему роль комментария играла интонация. Иронически многозначительная, притворно скорбная, она придавала забавному и в общем-то пустяковому случаю масштаб экзистенциального абсурда, заложники которого – мы все! ‒ друг для друга непознаваемы.
Иногда Витя не понимал или делал вид, что не понимает, в чём его заподозрили. Но интуиция подсказывала: хотят подловить, надо быть начеку.
Лидия Яковлевна Макарова, жена Фирса Ефимовича, актриса и педагог по прозвищу Мася, неоднократно подкатывалась с вопросом:
‒ Кто твоя мама?
Он всякий раз отвечал:
‒ Учитель математики.
‒ Не это я имела в виду.
Уточнить, что она имела в виду национальность, Лидия Яковлевна не решалась: студентик, мальчик ещё совсем, смотрел ей в глаза так прямо, так преданно, так невинно! Ей было невдомёк, что он считает её не по делу приставучей и не прочь посмеяться над ней.
Как-то раз, заглянув ненароком в пустую аудиторию, он обнаружил там Масю. Она сидела за столом в шикарной широкополой шляпе, которую (об этом знали все!) Фирс привёз ей из Парижа, и, разбивая кулачком грецкие орехи, сосредоточенно их поглощала. Витя счёл за благо удалиться незамеченным, а потом сделал из увиденного пародию, посредством которой надеялся повысить свой авторитет среди студентов и особенно студенток, несмотря на огромный риск (настучали бы Фирсу – и крышка!).
Был случай, когда по какому-то поводу (Вите казалось, что без всякого повода) Шишигин сделал ему внушение:
‒ Гвоздицкий, ты слишком развязен. Учти это.
‒ Что я должен учесть, Фирс Ефимович? Что именно?
‒ Да вот и подтверждение. Когда б ты не был так развязен, не стал бы допытываться, что именно. Просто принял бы к сведению. Скромно. Молча. Понятно тебе?
Витя не ответил.
Я, кажется, задал тебе вопрос. Что молчишь?
‒ Вы же сами сказали: молча. Вот я и молчу.
‒ Доиграешься.
В конце первого курса он почти доигрался. Стало известно, что из фотопортрета народного артиста РСФСР Владимира Алексеевича Солопова, запечатлённого в гриме Печорина и смотревшего в объектив с подобающей лишнему человеку глубочайшей тоской по высокому предназначению, студент Гвоздицкий вырезал глаз и повесил его у себя над кроватью. Когда о кощунственной выходке доложили Шишигину, тот рассвирепел и велел подготовить приказ об отчислении. Не миновать бы Вите участи лишнего человека, когда бы сам пострадавший не взялся его защищать. (На правах корифея, служившего под началом Фирса ещё в Воронеже, Владимир Алексеевич мог позволить себе иметь особое мнение, а иной раз даже высказать его.) В разговоре один на один он привёл свои аргументы. Во-первых, портрет уже три года пылился на шкафу в общежитии, всеми забытый, бесхозный. Во-вторых, субъективно мальчик не кощунствовал, а священнодействовал; глаз этот – всевидящее око искусства – следует понимать как наивный символ, икону своего рода. И наконец, в спектакле «Мадемуазель Нитуш», который он, Солопов, готовит со своим ‒ вторым ‒ курсом, первокурсник Гвоздицкий необходим. Первые два аргумента не убедили Шишигина. Священнодейство дикаря не что иное, как святотатство. Нельзя экспроприировать то, что тебе не принадлежит. Нашёл портрет в пыли – вытри пыль, принеси реликвию в деканат или в литчасть театра. А он что сделал?! На что руку поднял?! Если он до сих пор не усвоил, что театр памятью жив, исторической памятью, которую надо беречь как зеницу ока, то и делать ему здесь нечего. Здесь святотатцам не место! С третьим же аргументом Шишигин (вот и пойми его) неожиданно согласился; для французской оперетки мальчишка и впрямь подходит. Весь следующий учебный год спасённый святотатец «скакал счастливым козлом» (его слова) в роли опереточного гусара, безымянного и бессловесного. Стоит ли добавлять, что этот гусар, никому не нужный, был сочинён Владимиром Алексеевичем исключительно из человеколюбия.
В конце второго курса Шишигин опять порывался Витю отчислить. И опять-таки ставил в вину небрежение исторической памятью. На экзамене по истории Гвоздицкий перепутал народников с народовольцами. Да не то беда, что перепутал. А то, что по глазам его читалось: плевать он хотел и на тех, и на этих.
Фирса все студенты боялись. Витя, похоже, больше всех. Увидев вдалеке, в конце коридора, на всякий пожарный поворачивал вспять. Однажды тот засёк его на противоходе, окликнул, подозвал к себе и, не сердясь, не хмурясь, а с хитрецой, с миролюбивой подначкой (но в голосе Фирса, «негромком, хриплом, пробирающем до печёнок», даже при безоблачной погоде Витя слышал раскаты грома):
‒ Думаешь, я не вижу, как ты всё время норовишь от меня ушмыгнуть? Давай выкладывай, где набедокурил.
‒ Нигде.
‒ Неужто ничего не натворил?
‒ Ничего.
‒ Так и не прячься тогда. Для чего же прятаться, коли совесть чиста?
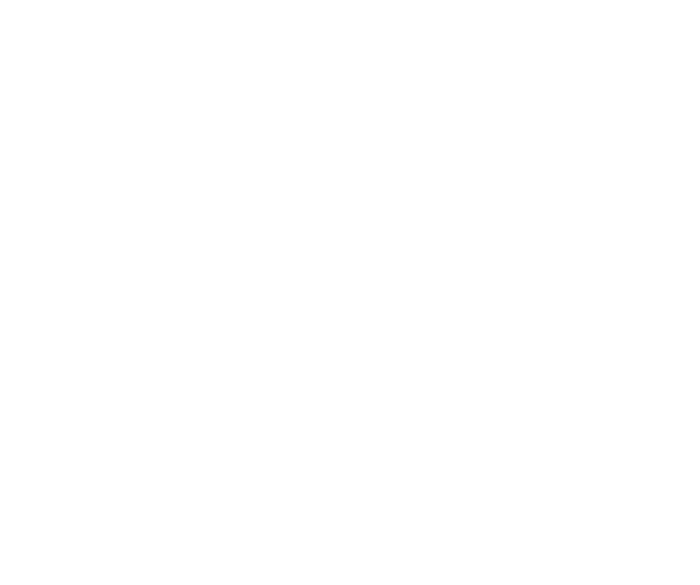
Играя перед ним ‒ в отрывке ‒ Хлестакова, Витя был так достоверно испуган визитом городничего в гостиницу (на самом деле ‒ мастера на экзамен), что удостоился одобрения. Момент редчайший. Обычно мастер не то что придирался, просто не отмечал, не замечал его в работе. Из чего и было видно: недолюбливает.
За что недолюбливал? Да вроде ни за что. Или за всё. Это ведь одно и то же.
Но лучше сказать так: не того сукна епанча, не нашего прихода человечек.
Чувствуя в человечке не просто двойное донышко, а именно что не наше, чужеродное, Шишигин не ошибался. Как и я не ошибался, когда на конференции в Доме актёра улавливал в Шишигине двойственность, противоположную моей ‒ нашей, четверговой.
‒ Вот в Сталинграде был у меня такой артист Смоктуновский. Чем-то ты на него похож.
В первое мгновение Витя решил, что получил награду. Но увидев, какое лицо сделал суровый бог, понял, что это не награда, а приговор.
За что недолюбливал? Да вроде ни за что. Или за всё. Это ведь одно и то же.
Но лучше сказать так: не того сукна епанча, не нашего прихода человечек.
Чувствуя в человечке не просто двойное донышко, а именно что не наше, чужеродное, Шишигин не ошибался. Как и я не ошибался, когда на конференции в Доме актёра улавливал в Шишигине двойственность, противоположную моей ‒ нашей, четверговой.
‒ Вот в Сталинграде был у меня такой артист Смоктуновский. Чем-то ты на него похож.
В первое мгновение Витя решил, что получил награду. Но увидев, какое лицо сделал суровый бог, понял, что это не награда, а приговор.
как шишигин терпел смоктуновского
К тому времени Смоктуновский сыграл Мышкина, Гамлета, Деточкина, получил Ленинскую премию. Отрицать, по крайней мере публично, что его слава заслуженна, соразмерна незаурядному дару, значило бы выставить в невыгодном свете не его, а себя. Шишигин и не отрицал, помалкивал: дискутировать с общепринятой точкой зрения было не в его правилах. Но сердцу-то не прикажешь. Голос сердца другое нашёптывал: всякий ли дар Богу угоден? Дар ведь бывает и помутнённый, подточенный злейшим врагом рода человеческого.
То-то и оно.
По совместной работе, продолжавшейся два с лишним года (1953‒1955), он запомнил артиста небезынтересного, но психически неустойчивого, блажного: то чересчур церемонного, то бесцеремонного совсем. Занимая в труппе далеко не первое положение, артист держался… нескромно? Нет, хуже: с наигранной скромностью, скрывающей распущенность души, в себя влюблённой. То была душа единоличника, окопавшегося на своей делянке, отгородившегося от интересов большого коллективного хозяйства, за которое Шишигин отвечал перед партией и народом.
Кеша, или Кеж, как его называли товарищи по театру (тамбовский волк тебе товарищ на самом-то деле!), был, как правило, тих, подозрительно тих: в тихом омуте черти водятся. И уж если они распаляются и всплывают со дна на поверхность, то пределов безобразия не ведают. Так и этот тихушник не ведал; не стеснялся показывать, что всё ему дозволено.
А всё никому не дозволено. Вот в чём вопрос!
На репетиции, когда остальные пахали в поте лица, он мог ни с того ни с сего остановиться, сбив с панталыку всех, да и спросить режиссёра с вежливой-вежливой наглостью: «А это зачем? А почему я здесь стою? Я этого не понимаю». Или даже так: «Я с этим не согласен!». Да кому интересно, согласен ты или нет?! Твоё дело слушать, что говорит режиссёр. И исполнять! Исполнять!! Потому что ты ‒ ис-пол-ни-тель!!!
Но втолковывать ему простые, всем очевидные истины было совершенно бесполезно.
До того доходило, что от ролей отказывался. Передовика производства играть не хотел, завхоза отрицательного – тоже. «Это всё, Фирс Ефимыч, не по моему таланту». Так и говорил! С улыбочкой своей ‒ придурковатой.
А за глаза называл диктатором. Не понимал, что диктатору вмиг донесут?
Не мог не понимать. Школу жизни прошёл суровую, должен был научиться осторожности. На фронте пороху понюхал. У немцев в плену побывал. (На эту тему, правда, и в подпитии ‒ никому в театре ни полслова; стало быть, умел владеть собой, способен был попридержать язык, когда считал это нужным.) Бежал из плена. Дошёл до Берлина. Оказался в Норильском театре, лагерном; пусть на правах вольняшки, но бок о бок с настоящими зэками. Политическими. И в Сталинграде тоже, находился под наблюдением органов…
Разве этого недостаточно, чтобы знать свой шесток, не чирикать, не рыпаться, не нарываться, ценить синицу в руках! Так нет же, нет. Странное, очень странное поведение!
Странно, однако, было и то, что Шишигин Смоктуновского терпел. В принципе нетерпимый к малейшим нарушениям полувоенной дисциплины и субординации (в чём сказывался и характер, самодурский от природы, и опыт службы в дальневосточном армейском театре), терпел до последнего. Осаживал, ставил на место, но не выгонял. А ведь запросто мог бы: на расправу был скор.
Что-то его удерживало от применения крайней меры.
Иной раз, случалось, и хвалил; мимоходом, скупо (в воспитательных целях?). Чаще же (в тех же целях?) будто не видел, что даже в маленьких, невыигрышных эпизодах Смоктуновский умудряется быть ярким и захватывающим, так что о нём и в городе заговорили.
Появились две статьи, посвящённые только ему, только одной его роли. Третьестепенная роль слуги Бионделло в «Укрощении строптивой» оказалась главнее главных ролей. Главнее самой постановки! О коллективе, о режиссёре – сквозь зубы, а этому – панегирик! Вопиющее хамство!
Или не просто хамство? Интрига? Провокация?
Та статья, что была напечатана «Сталинградской правдой», принципиальную оценку всё-таки получила. Автора, местного журналиста Владимира Ерёменко, вызвали в обком партии, где ему было указано: партийно-советская печать города-героя не место для панегириков бывшим военнопленным!
Другую статью, во всесоюзном (!) журнале «Театр» (1954, №12), написала некто Л.Новоселицкая. Не местная, к ответу не призовёшь. Кто такая? Откуда? Справки навели. Оказалось, без году неделя завлит Русского театра в Одессе (спектакль посмотрела там же, на гастролях). Материал ей вроде не заказывали, сама прислала. Так уверяли в редакции. Хороши редакторы, нечего сказать. Почему не позвонили, не посоветовались с руководством театра? Почему доверились мнению случайной какой-то авторши?
Случайной ли? А что, если кто-то за ней стоял?
То-то и оно.
По совместной работе, продолжавшейся два с лишним года (1953‒1955), он запомнил артиста небезынтересного, но психически неустойчивого, блажного: то чересчур церемонного, то бесцеремонного совсем. Занимая в труппе далеко не первое положение, артист держался… нескромно? Нет, хуже: с наигранной скромностью, скрывающей распущенность души, в себя влюблённой. То была душа единоличника, окопавшегося на своей делянке, отгородившегося от интересов большого коллективного хозяйства, за которое Шишигин отвечал перед партией и народом.
Кеша, или Кеж, как его называли товарищи по театру (тамбовский волк тебе товарищ на самом-то деле!), был, как правило, тих, подозрительно тих: в тихом омуте черти водятся. И уж если они распаляются и всплывают со дна на поверхность, то пределов безобразия не ведают. Так и этот тихушник не ведал; не стеснялся показывать, что всё ему дозволено.
А всё никому не дозволено. Вот в чём вопрос!
На репетиции, когда остальные пахали в поте лица, он мог ни с того ни с сего остановиться, сбив с панталыку всех, да и спросить режиссёра с вежливой-вежливой наглостью: «А это зачем? А почему я здесь стою? Я этого не понимаю». Или даже так: «Я с этим не согласен!». Да кому интересно, согласен ты или нет?! Твоё дело слушать, что говорит режиссёр. И исполнять! Исполнять!! Потому что ты ‒ ис-пол-ни-тель!!!
Но втолковывать ему простые, всем очевидные истины было совершенно бесполезно.
До того доходило, что от ролей отказывался. Передовика производства играть не хотел, завхоза отрицательного – тоже. «Это всё, Фирс Ефимыч, не по моему таланту». Так и говорил! С улыбочкой своей ‒ придурковатой.
А за глаза называл диктатором. Не понимал, что диктатору вмиг донесут?
Не мог не понимать. Школу жизни прошёл суровую, должен был научиться осторожности. На фронте пороху понюхал. У немцев в плену побывал. (На эту тему, правда, и в подпитии ‒ никому в театре ни полслова; стало быть, умел владеть собой, способен был попридержать язык, когда считал это нужным.) Бежал из плена. Дошёл до Берлина. Оказался в Норильском театре, лагерном; пусть на правах вольняшки, но бок о бок с настоящими зэками. Политическими. И в Сталинграде тоже, находился под наблюдением органов…
Разве этого недостаточно, чтобы знать свой шесток, не чирикать, не рыпаться, не нарываться, ценить синицу в руках! Так нет же, нет. Странное, очень странное поведение!
Странно, однако, было и то, что Шишигин Смоктуновского терпел. В принципе нетерпимый к малейшим нарушениям полувоенной дисциплины и субординации (в чём сказывался и характер, самодурский от природы, и опыт службы в дальневосточном армейском театре), терпел до последнего. Осаживал, ставил на место, но не выгонял. А ведь запросто мог бы: на расправу был скор.
Что-то его удерживало от применения крайней меры.
Иной раз, случалось, и хвалил; мимоходом, скупо (в воспитательных целях?). Чаще же (в тех же целях?) будто не видел, что даже в маленьких, невыигрышных эпизодах Смоктуновский умудряется быть ярким и захватывающим, так что о нём и в городе заговорили.
Появились две статьи, посвящённые только ему, только одной его роли. Третьестепенная роль слуги Бионделло в «Укрощении строптивой» оказалась главнее главных ролей. Главнее самой постановки! О коллективе, о режиссёре – сквозь зубы, а этому – панегирик! Вопиющее хамство!
Или не просто хамство? Интрига? Провокация?
Та статья, что была напечатана «Сталинградской правдой», принципиальную оценку всё-таки получила. Автора, местного журналиста Владимира Ерёменко, вызвали в обком партии, где ему было указано: партийно-советская печать города-героя не место для панегириков бывшим военнопленным!
Другую статью, во всесоюзном (!) журнале «Театр» (1954, №12), написала некто Л.Новоселицкая. Не местная, к ответу не призовёшь. Кто такая? Откуда? Справки навели. Оказалось, без году неделя завлит Русского театра в Одессе (спектакль посмотрела там же, на гастролях). Материал ей вроде не заказывали, сама прислала. Так уверяли в редакции. Хороши редакторы, нечего сказать. Почему не позвонили, не посоветовались с руководством театра? Почему доверились мнению случайной какой-то авторши?
Случайной ли? А что, если кто-то за ней стоял?
предчувствие счастья
С Лией Мироновной Новоселицкой (1920—1998) я познакомился в 1967 году. Мне было пятнадцать лет, ей сорок семь. Работала она уже в другом театре ‒ музыкальной комедии. Обратив внимание на посвящённый этому театру мой школярский лепет в газете «Комсомольская искра», позвонила, как взрослому, поблагодарила, пригласила на премьеру. Когда я, робея, впервые переступил порог её кабинета, она сказала: ну вот, комирчы´нка моя (комнатушка), и это уменьшительно-ласкательное украинское слово, неожиданно вплетённое в русскую речь, послужило указанием на то, что при официальной должности состоит лицо неофициальное, расположенное к доверительному общению.
Прогуливая школу ради общения с Лией Мироновной, я приходил в комирчынку чуть ли не каждый день, и на вахте театра меня пропускали приветливо, признавая тем самым мой почти узаконенный статус вольноопределяющегося литературной части.
Первый на моём пути живой театровед, она была не из тех, кто ведает театром свысока. Но из тех, кем театр ведает, и кто растворяется в нём. Коллекция театральных воспоминаний, наблюдений, переживаний составляла единственную прибыль её жизни, остальное сложилось в убыток. О чём я, конечно, тогда не задумывался, готовясь к своей – счастливой, а как же иначе – судьбе.
Хотя Лия Мироновна была далека от уверенности, что человек рождается для счастья, тем более – советский человек, но предчувствием счастья, ожидающего меня за каким-то близким уже поворотом, я был обязан ей. Её благожелательности, которая проявлялась и в щедрых похвалах-авансах, и в деликатных наставлениях непростительно юному, как она говорила, коллеге.
Пойдём, Валерик со мной, заглянем кое к кому.
И мы заглядывали – к завпосту, к завтруппой, ещё в какие-нибудь недра, обитатели которых – помрежи, гримёры, реквизиторы, осветители, звуковики – разъясняли коллеге, чем они занимаются и почему в одном случае делают так, а в другом этак.
Как, по-твоему, сегодня прошла репетиция?
Я отвечал, она слушала внимательно, серьёзно, будто моё суждение действительно было существенным. Иногда могла и остановить: погоди, тут давай разберёмся. Но впрямую не опровергала никогда, пользуясь только вопросами – наводящими, уточняющими.
А больше всего я любил – кофе, Валерик? к бесцельному трёпу готов?
Я всегда был готов.
Как! Ты не знаешь, кто такая Добржанская? Не разочаровывай меня. Что значит «не видел на сцене»?! А Комиссаржевскую ты видел? Мало ли кого мы не видели, это нас не освобождает от… Тем более, что ты её видел. В кино. Почему в немом? Нет, она не современница Комиссаржевской. Любовь Ивановна Добржанская – мама Смоктуновского в «Берегись автомобиля», вот она кто! Со Смоктуновским? Знакома. Отдельный разговор. Как-нибудь потом. При чём тут Римма Быкова? Надо же! И что она о нём рассказывает? Про «Идиота» в БДТ надо Берковского читать, а не Римму Быкову слушать… «Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далёком, буду тебе…» Сейчас учиться лучше в Ленинграде, на Моховой. Вот Сахновский приедет, я тебя с ним познакомлю. Я киевлянка. Дом Бергонье – мой дом. Раньше у нас говорили: это Кира Лавров, сын Юрия Сергеевича. Теперь наоборот: сына знают все. Добржанскую помню молодой. Ещё до того, как она из Киева уехала. Мне было лет двенадцать. Меня привели к ней за кулисы. Я не верила своему счастью. Перед самой войной, на втором курсе ГИТИСа, практика в Театре Красной армии. Собираюсь с духом, подхожу к ней: Любовь Ивановна, я та самая девочка. До войны? Нет, ну что ты, какой Мейерхольд, он был арестован в тридцать девятом, как раз когда я поступила. Бабанову – Таню видела, это да. Хмелёва – Тузенбаха. «Я не пил сегодня кофе». Обрыдалась. Вчера звонила в журнал «Театр». Саша Свободин сказал: у Эфроса плохи дела, «Трёх сестёр» закрывают. Мхатовские старики смотрели, возмущались. Ангелина Степанова – парторг. Я её Ириной помню ‒ в тех «Трёх сёстрах», с Хмелёвым. В Москву, в Москву, Валерик? На каникулы? Запиши телефон Поюровского. Боря. Борис Михайлович. Он всех знает. На Таганку поможет попасть. Нет, не из Одессы. Из Харькова. Ты знаешь, что Матвей ‒ сын врага народа? ГИТИС он окончил, а на работу никуда не брали. Тарханов помог. Рекомендовал Марьяну Крушельницкому, тот не отказал, рискнул, и Матвей поехал в Харьков на постановку. Борю, между прочим, никуда не брали в Харькове, и он поехал в Москву, надеясь на Юзовского. А Юзовского самого отовсюду выгнали как безродного космополита. Ну так вот. По своему второму образованию он был философ. При чём тут Боря? Боря не философ. Марьян Михайлович. Он окончил Пражский университет. Курбас, кстати, тоже философию изучал – в Вене. Ну так вот. Рано утром, прямо с вокзала, Матвей приходит в Театр Шевченко, в театре ни души, а Крушельницкий уже там, ждёт-встречает. Специально ради него явился. Лауреат Сталинских премий, народный артист СССР, директор, худрук, депутат. Официозный в общем человек. Ведёт он Матвея на сцену и говорит: запомни, Матюша, на всю жизнь запомни: эта сцена святая, здесь был Березиль, театр Курбаса. И рассказал про всю их катастрофу. Правду рассказал. А год какой был, понимаешь? Сорок восьмой. О Курбасе ни слова нельзя было, ни слова. Больше на эту тему он с Матвеем не заговаривал. А тогда почему-то решил довериться ему, молодому незнакомому, и вдобавок москвичу, еврею, явно далёкому от украинской травмы. Что ты знаешь о Курбасе, Валерик? Ладно. В следующий раз [Актриса Римма Александровна Быкова (1926—2008), первая жена Смоктуновского (они расстались в 1955-м), была школьной подругой моей мамы, Евгении Яковлевны Лемберской (1925—2001); Берковский Наум Яковлевич (1901–1972), историк литературы и театра; Песня «Миленький ты мой» звучала в спектакле БДТ «Пять вечеров», который Лия Мироновна очень любила; Владимир Александрович Сахновский-Панкеев (1917–1979), театровед, профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии; Дом Бергонье – киевский русский Театр имени Леси Украинки; Борис Михайлович Поюровский (1933—2016), театральный критик, учась в Харьковском театральном институте (1951–1955), предпринимал неудачные попытки перебраться в Москву. Это ему удалось в 1956-м. В 1968-м он работал завлитом в ГЦТК п/р С.В. Образцова; Матвей Абрамович Ошеровский (1920—2009). В 1962—1977 главный режиссёр Одесского театра музыкальной комедии; Юзовский Ю. (Иосиф Ильич) (1902–1964), театральный критик; Марьян Михайлович Крушельницкий (1897—1963), украинский актёр и режиссёр. Один из учеников и сподвижников гениального Леся Курбаса (1887—1937), погибшего в Соловецком лагере. Работал в его театре Березиль со дня основания (1924). После ареста Курбаса (1933) стал худруком театра, вскоре (1935) разгромленного и переименованного в Театр имени Шевченко, которым Крушельницкий продолжал руководить вплоть до 1952 года, когда ушёл на повышение – в киевский Театр имени Ивана Франко.].
Из всего этого и рождалось предчувствие счастья – внутреннее убеждение, что на театре я не посторонний и никогда посторонним не буду.
Теперь, подводя итоги, я чувствую что-то другое. В театр почти не хожу, к жизни его текущей давно уже безучастен, как и она к моей. Зато Лия Мироновна является мне всё чаще: пойдём, Валерик, со мной, заглянем кое к кому.
Прогуливая школу ради общения с Лией Мироновной, я приходил в комирчынку чуть ли не каждый день, и на вахте театра меня пропускали приветливо, признавая тем самым мой почти узаконенный статус вольноопределяющегося литературной части.
Первый на моём пути живой театровед, она была не из тех, кто ведает театром свысока. Но из тех, кем театр ведает, и кто растворяется в нём. Коллекция театральных воспоминаний, наблюдений, переживаний составляла единственную прибыль её жизни, остальное сложилось в убыток. О чём я, конечно, тогда не задумывался, готовясь к своей – счастливой, а как же иначе – судьбе.
Хотя Лия Мироновна была далека от уверенности, что человек рождается для счастья, тем более – советский человек, но предчувствием счастья, ожидающего меня за каким-то близким уже поворотом, я был обязан ей. Её благожелательности, которая проявлялась и в щедрых похвалах-авансах, и в деликатных наставлениях непростительно юному, как она говорила, коллеге.
Пойдём, Валерик со мной, заглянем кое к кому.
И мы заглядывали – к завпосту, к завтруппой, ещё в какие-нибудь недра, обитатели которых – помрежи, гримёры, реквизиторы, осветители, звуковики – разъясняли коллеге, чем они занимаются и почему в одном случае делают так, а в другом этак.
Как, по-твоему, сегодня прошла репетиция?
Я отвечал, она слушала внимательно, серьёзно, будто моё суждение действительно было существенным. Иногда могла и остановить: погоди, тут давай разберёмся. Но впрямую не опровергала никогда, пользуясь только вопросами – наводящими, уточняющими.
А больше всего я любил – кофе, Валерик? к бесцельному трёпу готов?
Я всегда был готов.
Как! Ты не знаешь, кто такая Добржанская? Не разочаровывай меня. Что значит «не видел на сцене»?! А Комиссаржевскую ты видел? Мало ли кого мы не видели, это нас не освобождает от… Тем более, что ты её видел. В кино. Почему в немом? Нет, она не современница Комиссаржевской. Любовь Ивановна Добржанская – мама Смоктуновского в «Берегись автомобиля», вот она кто! Со Смоктуновским? Знакома. Отдельный разговор. Как-нибудь потом. При чём тут Римма Быкова? Надо же! И что она о нём рассказывает? Про «Идиота» в БДТ надо Берковского читать, а не Римму Быкову слушать… «Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далёком, буду тебе…» Сейчас учиться лучше в Ленинграде, на Моховой. Вот Сахновский приедет, я тебя с ним познакомлю. Я киевлянка. Дом Бергонье – мой дом. Раньше у нас говорили: это Кира Лавров, сын Юрия Сергеевича. Теперь наоборот: сына знают все. Добржанскую помню молодой. Ещё до того, как она из Киева уехала. Мне было лет двенадцать. Меня привели к ней за кулисы. Я не верила своему счастью. Перед самой войной, на втором курсе ГИТИСа, практика в Театре Красной армии. Собираюсь с духом, подхожу к ней: Любовь Ивановна, я та самая девочка. До войны? Нет, ну что ты, какой Мейерхольд, он был арестован в тридцать девятом, как раз когда я поступила. Бабанову – Таню видела, это да. Хмелёва – Тузенбаха. «Я не пил сегодня кофе». Обрыдалась. Вчера звонила в журнал «Театр». Саша Свободин сказал: у Эфроса плохи дела, «Трёх сестёр» закрывают. Мхатовские старики смотрели, возмущались. Ангелина Степанова – парторг. Я её Ириной помню ‒ в тех «Трёх сёстрах», с Хмелёвым. В Москву, в Москву, Валерик? На каникулы? Запиши телефон Поюровского. Боря. Борис Михайлович. Он всех знает. На Таганку поможет попасть. Нет, не из Одессы. Из Харькова. Ты знаешь, что Матвей ‒ сын врага народа? ГИТИС он окончил, а на работу никуда не брали. Тарханов помог. Рекомендовал Марьяну Крушельницкому, тот не отказал, рискнул, и Матвей поехал в Харьков на постановку. Борю, между прочим, никуда не брали в Харькове, и он поехал в Москву, надеясь на Юзовского. А Юзовского самого отовсюду выгнали как безродного космополита. Ну так вот. По своему второму образованию он был философ. При чём тут Боря? Боря не философ. Марьян Михайлович. Он окончил Пражский университет. Курбас, кстати, тоже философию изучал – в Вене. Ну так вот. Рано утром, прямо с вокзала, Матвей приходит в Театр Шевченко, в театре ни души, а Крушельницкий уже там, ждёт-встречает. Специально ради него явился. Лауреат Сталинских премий, народный артист СССР, директор, худрук, депутат. Официозный в общем человек. Ведёт он Матвея на сцену и говорит: запомни, Матюша, на всю жизнь запомни: эта сцена святая, здесь был Березиль, театр Курбаса. И рассказал про всю их катастрофу. Правду рассказал. А год какой был, понимаешь? Сорок восьмой. О Курбасе ни слова нельзя было, ни слова. Больше на эту тему он с Матвеем не заговаривал. А тогда почему-то решил довериться ему, молодому незнакомому, и вдобавок москвичу, еврею, явно далёкому от украинской травмы. Что ты знаешь о Курбасе, Валерик? Ладно. В следующий раз [Актриса Римма Александровна Быкова (1926—2008), первая жена Смоктуновского (они расстались в 1955-м), была школьной подругой моей мамы, Евгении Яковлевны Лемберской (1925—2001); Берковский Наум Яковлевич (1901–1972), историк литературы и театра; Песня «Миленький ты мой» звучала в спектакле БДТ «Пять вечеров», который Лия Мироновна очень любила; Владимир Александрович Сахновский-Панкеев (1917–1979), театровед, профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии; Дом Бергонье – киевский русский Театр имени Леси Украинки; Борис Михайлович Поюровский (1933—2016), театральный критик, учась в Харьковском театральном институте (1951–1955), предпринимал неудачные попытки перебраться в Москву. Это ему удалось в 1956-м. В 1968-м он работал завлитом в ГЦТК п/р С.В. Образцова; Матвей Абрамович Ошеровский (1920—2009). В 1962—1977 главный режиссёр Одесского театра музыкальной комедии; Юзовский Ю. (Иосиф Ильич) (1902–1964), театральный критик; Марьян Михайлович Крушельницкий (1897—1963), украинский актёр и режиссёр. Один из учеников и сподвижников гениального Леся Курбаса (1887—1937), погибшего в Соловецком лагере. Работал в его театре Березиль со дня основания (1924). После ареста Курбаса (1933) стал худруком театра, вскоре (1935) разгромленного и переименованного в Театр имени Шевченко, которым Крушельницкий продолжал руководить вплоть до 1952 года, когда ушёл на повышение – в киевский Театр имени Ивана Франко.].
Из всего этого и рождалось предчувствие счастья – внутреннее убеждение, что на театре я не посторонний и никогда посторонним не буду.
Теперь, подводя итоги, я чувствую что-то другое. В театр почти не хожу, к жизни его текущей давно уже безучастен, как и она к моей. Зато Лия Мироновна является мне всё чаще: пойдём, Валерик, со мной, заглянем кое к кому.
промах
Однажды в комирчынке, выполняя обещание об отдельном разговоре, она мне показала (принесла из дома и унесла) непредназначенную для досужего обозрения, особо ценную для неё фотографию: Смоктуновский –Гамлет с факелом в руке. Особая ценность заключалась в дарственной надписи: «Той, чьи глаза и чуткое сердце увидели этот факел за десять лет до его появления. Моей Новоселицкой». Уже после смерти обоих слова дарителя были опубликованы (в сборнике «Жизнь и роли». М., 2002. С. 46). Но нигде не встретился мне пересказ той истории, которую – в качестве комментария к этим словам ‒ я услышал от Лии Мироновны полвека тому назад.
Конечно, в первую очередь Смоктуновский был ей признателен за статью в журнале «Театр». О той, кто впервые отметил его в центральной прессе, он помнил всегда. Но не мог не помнить и того, что ещё до выхода статьи, летом 1954-го, Новоселицкая предприняла попытку изменить его судьбу.
Дело было так.
Познакомившись на гастролях с одесским завлитом, он не скрыл от неё желания театр сменить. Но переговоры вести было не с кем: директор (назову его здесь Серов) был в отъезде и вернулся только под занавес гастролей, когда спектакли с участием Смоктуновского уже не шли. Тем не менее Новоселицкая уговорила Серова устроить яркой индивидуальности тайный просмотр в репетиционной комнате. После просмотра Директор в сердцах воскликнул:
‒ Кого ты мне подсунула?! Я очень огорчён твоим промахом. Не просто как директор. Как артист!
Да, он был артист. Заслуженный артист УССР. Ученик известного режиссёра Петровского, некогда работавшего у самой Комиссаржевской, при случае он любил потолковать о корнях и заветах, о высоких традициях русского психологического театра. И теперь, действительно огорчённый как носитель этих традиций, начальственный разнос устраивать не стал ‒ попробовал пробиться к эстетическому чувству.
‒ Лиля!..
Все так её звали; слегка изменённое имя (возникшее в сорок девятом как слабая попытка уклониться от клейма безродной космополитки), ничего по сути не меняя, вероятно, казалось всё же не таким разоблачительным, как Лия.
‒ Лилечка! Мы же тебя тут держим за женщину со вкусом! Не знаю, что на тебя нашло. Одно утешение: ростом высок, но всё остальное… Интонирует ужасно, бормочет, будто дома разговаривает, никакого понятия о подаче звука. Апломб отсутствует, ни одной фиксированной позы, все движения смазаны, обыденны. Так и на улице артисту выглядеть нельзя, не то что на сцене. Амплуа не разберёшь какое: ни герой, ни комик. Жанра не чувствует. В каком жанре он показал Хлестакова? Можешь сказать? Да ни в каком! То вроде бы смешно, то вовсе не смешно: в драматизм полез зачем-то. Всё перемешал! Не понимает, что драма – это драма, а комедия – это комедия. О внутренней логике говорить не приходится. Ты обратила внимание, как он передаёт испуг Хлестакова, когда городничий является в гостиницу? Дрожит мелко-мелко, да в пол обречённо смотрит, руки сложив на коленках, точно у него уж и узелок припасён на случай тюрьмы. Откуда, скажи на милость, эта обречённость? С чего ей взяться? Он же безмозглый, фитюлька, не в состоянии предвидеть, что ждёт его через минуту! Нет, правдой жизни тут и не пахнет.
Лилечка могла бы возразить: фитюлек тоже забирали (в царское, разумеется, время), так что много мозгов не обязательно было иметь, чтобы чувствовать, что в любой момент могут прийти и за тобой. А то, что у Смоктуновского Хлестаков и смешон, и жалок, и трогателен одновременно, ‒ это как раз правда жизни и есть. Но, понимая, кто перед ней, она благоразумно промолчала.
‒ А самое главное, ‒ резюмировал Серов, ‒ если так вот играть, то даже из пятого ряда никто не поймёт, не заметит, что ты испугался. Нет, чтобы вскочить, заметаться из угла в угол, руками схватиться за голову, глаза округлить от страха. У страха-то, Лиля, глаза велики!
Конечно, в первую очередь Смоктуновский был ей признателен за статью в журнале «Театр». О той, кто впервые отметил его в центральной прессе, он помнил всегда. Но не мог не помнить и того, что ещё до выхода статьи, летом 1954-го, Новоселицкая предприняла попытку изменить его судьбу.
Дело было так.
Познакомившись на гастролях с одесским завлитом, он не скрыл от неё желания театр сменить. Но переговоры вести было не с кем: директор (назову его здесь Серов) был в отъезде и вернулся только под занавес гастролей, когда спектакли с участием Смоктуновского уже не шли. Тем не менее Новоселицкая уговорила Серова устроить яркой индивидуальности тайный просмотр в репетиционной комнате. После просмотра Директор в сердцах воскликнул:
‒ Кого ты мне подсунула?! Я очень огорчён твоим промахом. Не просто как директор. Как артист!
Да, он был артист. Заслуженный артист УССР. Ученик известного режиссёра Петровского, некогда работавшего у самой Комиссаржевской, при случае он любил потолковать о корнях и заветах, о высоких традициях русского психологического театра. И теперь, действительно огорчённый как носитель этих традиций, начальственный разнос устраивать не стал ‒ попробовал пробиться к эстетическому чувству.
‒ Лиля!..
Все так её звали; слегка изменённое имя (возникшее в сорок девятом как слабая попытка уклониться от клейма безродной космополитки), ничего по сути не меняя, вероятно, казалось всё же не таким разоблачительным, как Лия.
‒ Лилечка! Мы же тебя тут держим за женщину со вкусом! Не знаю, что на тебя нашло. Одно утешение: ростом высок, но всё остальное… Интонирует ужасно, бормочет, будто дома разговаривает, никакого понятия о подаче звука. Апломб отсутствует, ни одной фиксированной позы, все движения смазаны, обыденны. Так и на улице артисту выглядеть нельзя, не то что на сцене. Амплуа не разберёшь какое: ни герой, ни комик. Жанра не чувствует. В каком жанре он показал Хлестакова? Можешь сказать? Да ни в каком! То вроде бы смешно, то вовсе не смешно: в драматизм полез зачем-то. Всё перемешал! Не понимает, что драма – это драма, а комедия – это комедия. О внутренней логике говорить не приходится. Ты обратила внимание, как он передаёт испуг Хлестакова, когда городничий является в гостиницу? Дрожит мелко-мелко, да в пол обречённо смотрит, руки сложив на коленках, точно у него уж и узелок припасён на случай тюрьмы. Откуда, скажи на милость, эта обречённость? С чего ей взяться? Он же безмозглый, фитюлька, не в состоянии предвидеть, что ждёт его через минуту! Нет, правдой жизни тут и не пахнет.
Лилечка могла бы возразить: фитюлек тоже забирали (в царское, разумеется, время), так что много мозгов не обязательно было иметь, чтобы чувствовать, что в любой момент могут прийти и за тобой. А то, что у Смоктуновского Хлестаков и смешон, и жалок, и трогателен одновременно, ‒ это как раз правда жизни и есть. Но, понимая, кто перед ней, она благоразумно промолчала.
‒ А самое главное, ‒ резюмировал Серов, ‒ если так вот играть, то даже из пятого ряда никто не поймёт, не заметит, что ты испугался. Нет, чтобы вскочить, заметаться из угла в угол, руками схватиться за голову, глаза округлить от страха. У страха-то, Лиля, глаза велики!
белая ворона, беззаконная комета
«Всё через страх» – записал для себя Смоктуновский в 1951 году, готовясь к роли Хлестакова. Анализируя его записи на полях пьесы, Елена Горфункель, автор содержательной книги о Смоктуновском, обращает внимание на то, что «…помета "страх" неоднократно встречается на полях». Вместе с тем Хлестаков, каким его мыслил артист, силится вести себя так, «будто "ничего особенного" не происходит, всё "просто" после очевидных шагов городничего к умиротворению этого мнимого начальника. Хлестаков – помечает актёр – проявляет "радушие"; <…> Но живо реагирует на слова "тюрьма и суд". Внутренний страх сохраняется». Далее автор книги приводит слова Смоктуновского о дурной провинциальной традиции исполнения этой роли: «…эксцентризм в рисунке, и только! Всё остальное – за запретной чертой!» [Елена Горфункель. Гений Смоктуновского. М., 2015. С. 410‒411] .
В Сталинграде он сыграл Хлестакова только один раз. Случайно. Это был срочный ввод вместо заболевшего премьера труппы. Доверить такую ответственную роль такому безответственному артисту Шишигин не рискнул бы, но пришлось. Смоктуновский был единственным в труппе, кто знал весь текст этой роли (играл её раньше, в Махачкале). Вынужденный эксперимент прошёл с большим успехом. Выразительность «внутреннего страха» труппа оценила по достоинству, Все понимали, что Смоктуновский поднял спектакль на новую высоту, все поздравляли его, и Шишигин тоже: руку жал. Казалось, режиссёр наконец-то смягчится к нему. По крайней мере, Хлестакова за ним оставит, даст играть в очередь. Но ничего не изменилось. И логика в этом была. Железная. Рано или поздно строптивый должен был сломаться. Сила солому ломит. А как иначе?
И Шишигин продолжал его терпеть.
Чаша терпения не переполнилась даже тогда, когда Кеж, заподозрив Римму Быкову в измене (может быть, зря; ревнив был, как мавр), выследил её, нагрянул в ресторан, где она сидела с молодым человеком, тоже актёром, и, учинив пьяный дебош, подрался с ним. Вышел скандал на весь город! Замять его было нельзя, надо было соблюсти обычные в таких делах формальности: пропесочить на общем собрании и отчитаться перед горкомом-обкомом. Поначалу так всё и было: формально. На собрании все говорили примерно одно и то же. Советские актёры понимают: они должны быть образцом для подражания. Но недаром говорят в народе: паршивая овца всё стадо портит. Не дадим запятнать честь творческого коллектива, честь города-героя!..
Несмотря на устрашающие слова, увольнение дебоширу не грозило. Строгий выговор, не более того. Требовалось только повиниться, покаяться. Но, по свидетельству актрисы Людмилы Кузнецовой (она была подругой семьи, скорее именно Риммы, особенно после того, как семья распалась), «Кеша не стал виниться и каяться. Наоборот — заявил, что из театра уходит: «Я покину труппу. И если через пять лет вы обо мне не услышите, знайте — я ушёл из профессии!». Многие потом утверждали, что он сказал иначе: «вы обо мне ещё услышите!». Возможно, были и такие заявления, он это мог» [Цит. по: ссылка].
Он решил податься в Москву. Надеялся на туманные обещания Гиацинтовой (в 1951—1957-м Софья Гиацинтова руководила Театром Ленинского комсомола). Шишигин к этому отнёсся однозначно: предательство общего дела, бегство с поля боя. Отношение большинства актёров тоже было неодобрительным. Но не потому, что предал (они бы и сами предали, будь такая возможность реальной), а потому, что сглупил, психанул. Иные жалели его, отговаривали дружески: Гиацинтова шанса не даст, и никто в Москве рад тебе не будет, там никто никому не рад. За примером далеко ходить не надо; живой пример перед тобой: Фирс Ефимович. Ему до сих пор вспоминать противно богом забытый Таганский тупик. Ну, а если всё-таки не передумаешь уходить, уйди по-человечески: доиграй сезон до конца, не срывай репертуар, дай без спешки тебя заменить. И ещё – уж будь так любезен – воздержись поносить театр, где тебя пригрели, где твои товарищи остаются и куда, быть может, тебе ещё вернуться предстоит. Не плюй в колодец, Кеж!
В Москве Смоктуновскому шанса и впрямь не дали. В Театр Ленинского комсомола взяли со скрипом, во вспомсостав. В остальных, более-менее пристойных театрах ‒ от ворот поворот. В Театре-студии киноактёра, куда всё же удалось проникнуть, и спектакли были ничтожными, и порядки дикими. Хуже сталинградских!
В Сталинграде было хоть какое-то жильё, была пусть маленькая, но зарплата, и публика уже заметила его. А в Москве (до встречи с Соломкой, спутницей жизни, опорой всегда и во всём) жил впроголодь, ночевал то на вокзальных скамьях, то на подоконниках в подъездах многоквартирных домов, откуда его прогоняли возмущённые жители. Но те слова на собрании, пусть и в запале сказанные, были ведь не пустыми. Это был выбор: пан или пропал! всё или ничего! Жизненно важный выбор, продиктованный теми возможностями, которые он в себе чувствовал. Он один их чувствовал. Один!
И только себе доверял.
А «моей Новоселицкой»? А другим доброжелателям? Были ведь и другие.
Нет. Конечно же, нет. Другие – это другие.
Елена Горфункель, прослеживая внутреннюю логику его жизненного поведения, приводит, в частности, мнение Татьяны Дорониной, в какой-то мере объясняющее то отчаянное, безоглядное упорство, с которым Смоктуновский, ни с кем и ни с чем не считаясь, сопротивлялся судьбе. Судьбе не такой уж злосчастной! ‒ как мог бы ему сказать и Шишигин, и всякий другой человек, кого научила жизнь ценить синицу в руках.
В 1957-м Доронину по окончании Школы-студии МХАТ «пригласили в Сталинградский театр, где Смоктуновского уже не было, но закулисные рассказы о нём впечатляли». Актриса «пришла к выводу, и не без оснований, что если бы он там остался, то "играл бы умно, тонко и талантливо среди нетонких, и неумных, и неталантливых, и считался бы плохим актёром, и спился бы, если бы смог, и удавился бы от ярости, бессилия и боли"» [Елена Горфункель. Гений Смоктуновского. М., 2015. С. 41.] .
Но вот обстоятельства благоприятные. В том же 1957-м Смоктуновскому наконец-то выпало счастье. Роль князя Мышкина в ленинградском – товстоноговском ‒ БДТ, изменившая всю его жизнь. И что же? Не прошло и трёх лет после триумфального успеха, как он – ненадёжный, неблагодарный! - дал дёру и от Товстоногова. (Легко представить себе, как ухмыльнулся Шишигин, узнав эту новость; опять Смоктуновский всех предал: и творческий коллектив, и город-герой!) Теперь-то чего не хватило ему? В БДТ, лучшем театре страны, он ведь был среди умных, и тонких, и талантливых. Ему предстояла роль Чацкого в «Горе от ума»!.. Да, но и там требовалось подчинять себя общему делу и режиссеру-диктатору: жертвовать самостоянием. Этого он не хотел, не мог. Ведомый тем внутренним чувством, что наиважнейший долг человека – долг перед собой, он в любом общем деле оставался белой вороной или, иначе сказать, беззаконной кометой. (Одно определение другому не противоречит, несмотря на различие их коннотаций).
В Сталинграде он сыграл Хлестакова только один раз. Случайно. Это был срочный ввод вместо заболевшего премьера труппы. Доверить такую ответственную роль такому безответственному артисту Шишигин не рискнул бы, но пришлось. Смоктуновский был единственным в труппе, кто знал весь текст этой роли (играл её раньше, в Махачкале). Вынужденный эксперимент прошёл с большим успехом. Выразительность «внутреннего страха» труппа оценила по достоинству, Все понимали, что Смоктуновский поднял спектакль на новую высоту, все поздравляли его, и Шишигин тоже: руку жал. Казалось, режиссёр наконец-то смягчится к нему. По крайней мере, Хлестакова за ним оставит, даст играть в очередь. Но ничего не изменилось. И логика в этом была. Железная. Рано или поздно строптивый должен был сломаться. Сила солому ломит. А как иначе?
И Шишигин продолжал его терпеть.
Чаша терпения не переполнилась даже тогда, когда Кеж, заподозрив Римму Быкову в измене (может быть, зря; ревнив был, как мавр), выследил её, нагрянул в ресторан, где она сидела с молодым человеком, тоже актёром, и, учинив пьяный дебош, подрался с ним. Вышел скандал на весь город! Замять его было нельзя, надо было соблюсти обычные в таких делах формальности: пропесочить на общем собрании и отчитаться перед горкомом-обкомом. Поначалу так всё и было: формально. На собрании все говорили примерно одно и то же. Советские актёры понимают: они должны быть образцом для подражания. Но недаром говорят в народе: паршивая овца всё стадо портит. Не дадим запятнать честь творческого коллектива, честь города-героя!..
Несмотря на устрашающие слова, увольнение дебоширу не грозило. Строгий выговор, не более того. Требовалось только повиниться, покаяться. Но, по свидетельству актрисы Людмилы Кузнецовой (она была подругой семьи, скорее именно Риммы, особенно после того, как семья распалась), «Кеша не стал виниться и каяться. Наоборот — заявил, что из театра уходит: «Я покину труппу. И если через пять лет вы обо мне не услышите, знайте — я ушёл из профессии!». Многие потом утверждали, что он сказал иначе: «вы обо мне ещё услышите!». Возможно, были и такие заявления, он это мог» [Цит. по: ссылка].
Он решил податься в Москву. Надеялся на туманные обещания Гиацинтовой (в 1951—1957-м Софья Гиацинтова руководила Театром Ленинского комсомола). Шишигин к этому отнёсся однозначно: предательство общего дела, бегство с поля боя. Отношение большинства актёров тоже было неодобрительным. Но не потому, что предал (они бы и сами предали, будь такая возможность реальной), а потому, что сглупил, психанул. Иные жалели его, отговаривали дружески: Гиацинтова шанса не даст, и никто в Москве рад тебе не будет, там никто никому не рад. За примером далеко ходить не надо; живой пример перед тобой: Фирс Ефимович. Ему до сих пор вспоминать противно богом забытый Таганский тупик. Ну, а если всё-таки не передумаешь уходить, уйди по-человечески: доиграй сезон до конца, не срывай репертуар, дай без спешки тебя заменить. И ещё – уж будь так любезен – воздержись поносить театр, где тебя пригрели, где твои товарищи остаются и куда, быть может, тебе ещё вернуться предстоит. Не плюй в колодец, Кеж!
В Москве Смоктуновскому шанса и впрямь не дали. В Театр Ленинского комсомола взяли со скрипом, во вспомсостав. В остальных, более-менее пристойных театрах ‒ от ворот поворот. В Театре-студии киноактёра, куда всё же удалось проникнуть, и спектакли были ничтожными, и порядки дикими. Хуже сталинградских!
В Сталинграде было хоть какое-то жильё, была пусть маленькая, но зарплата, и публика уже заметила его. А в Москве (до встречи с Соломкой, спутницей жизни, опорой всегда и во всём) жил впроголодь, ночевал то на вокзальных скамьях, то на подоконниках в подъездах многоквартирных домов, откуда его прогоняли возмущённые жители. Но те слова на собрании, пусть и в запале сказанные, были ведь не пустыми. Это был выбор: пан или пропал! всё или ничего! Жизненно важный выбор, продиктованный теми возможностями, которые он в себе чувствовал. Он один их чувствовал. Один!
И только себе доверял.
А «моей Новоселицкой»? А другим доброжелателям? Были ведь и другие.
Нет. Конечно же, нет. Другие – это другие.
Елена Горфункель, прослеживая внутреннюю логику его жизненного поведения, приводит, в частности, мнение Татьяны Дорониной, в какой-то мере объясняющее то отчаянное, безоглядное упорство, с которым Смоктуновский, ни с кем и ни с чем не считаясь, сопротивлялся судьбе. Судьбе не такой уж злосчастной! ‒ как мог бы ему сказать и Шишигин, и всякий другой человек, кого научила жизнь ценить синицу в руках.
В 1957-м Доронину по окончании Школы-студии МХАТ «пригласили в Сталинградский театр, где Смоктуновского уже не было, но закулисные рассказы о нём впечатляли». Актриса «пришла к выводу, и не без оснований, что если бы он там остался, то "играл бы умно, тонко и талантливо среди нетонких, и неумных, и неталантливых, и считался бы плохим актёром, и спился бы, если бы смог, и удавился бы от ярости, бессилия и боли"» [Елена Горфункель. Гений Смоктуновского. М., 2015. С. 41.] .
Но вот обстоятельства благоприятные. В том же 1957-м Смоктуновскому наконец-то выпало счастье. Роль князя Мышкина в ленинградском – товстоноговском ‒ БДТ, изменившая всю его жизнь. И что же? Не прошло и трёх лет после триумфального успеха, как он – ненадёжный, неблагодарный! - дал дёру и от Товстоногова. (Легко представить себе, как ухмыльнулся Шишигин, узнав эту новость; опять Смоктуновский всех предал: и творческий коллектив, и город-герой!) Теперь-то чего не хватило ему? В БДТ, лучшем театре страны, он ведь был среди умных, и тонких, и талантливых. Ему предстояла роль Чацкого в «Горе от ума»!.. Да, но и там требовалось подчинять себя общему делу и режиссеру-диктатору: жертвовать самостоянием. Этого он не хотел, не мог. Ведомый тем внутренним чувством, что наиважнейший долг человека – долг перед собой, он в любом общем деле оставался белой вороной или, иначе сказать, беззаконной кометой. (Одно определение другому не противоречит, несмотря на различие их коннотаций).
закалённые фирсом
В 1993-м, когда режиссёр Николай Шейко приступил к репетициям «Маскарада» во МХАТе, Смоктуновский, назначенный на роль Арбенина, и Гвоздицкий, приглашённый из Эрмитажа на роль Неизвестного, встретились впервые. Имя нового партнёра утомлённому славой мастеру ничего не говорило, хотя в театральной среде Гвоздицкий был уже достаточно известен. Впрочем, что значит достаточно? Для кого достаточно, а для кого и нет. Но после первой читки, отведя режиссёра в сторонку и указав глазами на неизвестного Неизвестного, Смоктуновский полушёпотом потребовал:
‒ Расскажите, расскажите мне о нём!
‒ Расскажите, расскажите мне о нём!
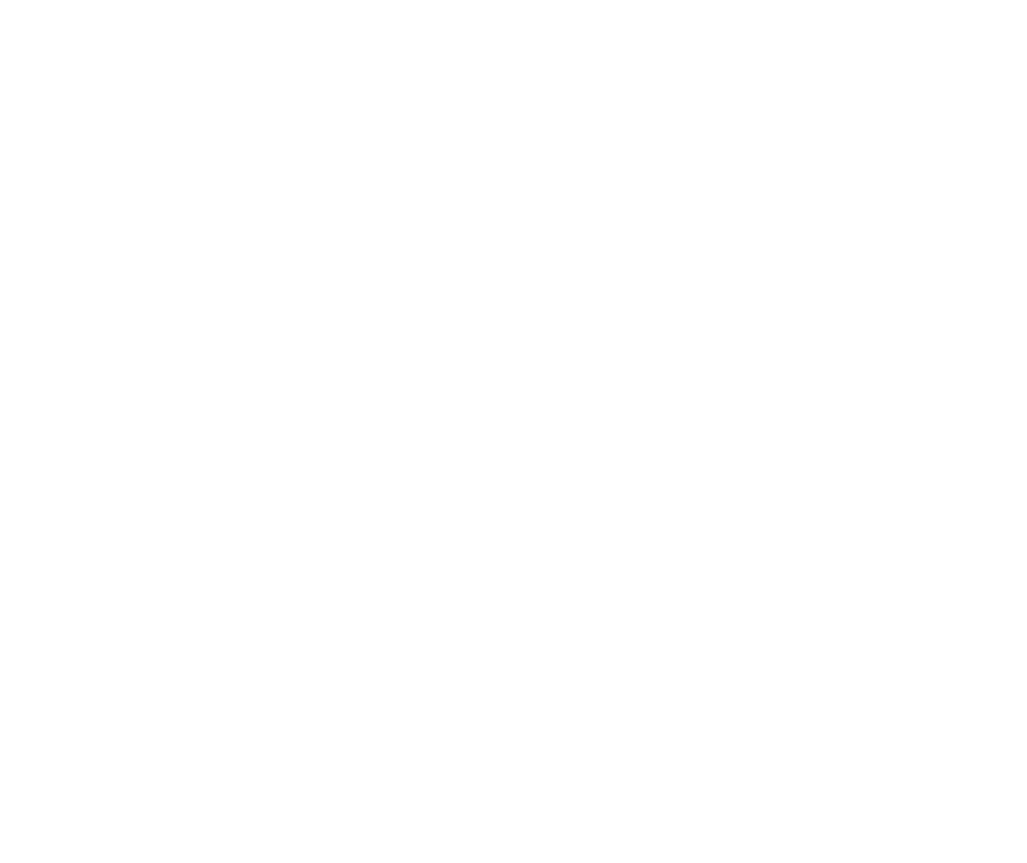
Чем Гвоздицкий вызвал его интерес, Иннокентий Михайлович не объяснил. Может быть, почувствовал в нём белую ворону, как Шишигин, заметивший юному Вите: «Чем-то ты на него похож». Этого мы уже не узнаем, да и не надо знать. Чем-то похож, чем-то совсем не похож, вот и всё. Ничего многозначительного, символичного я не вижу и в том, что главная роль в «Маскараде» (Смоктуновским не сыгранная: в 1994 году он умер) в итоге перешла к Гвоздицкому. Преемников Смоктуновский не оставил, факел Гамлета никому не передал. Он был сам по себе. И Гвоздицкий – сам по себе.
Если и было между ними нечто общее, так это школа Шишигина, обида на него и постепенное, на годы затянувшееся преодоление обиды.
Если и было между ними нечто общее, так это школа Шишигина, обида на него и постепенное, на годы затянувшееся преодоление обиды.
О покойном Товстоногове оба артиста, в разное время работавшие с ним, предпочитали не говорить ничего. Зато о покойном Шишигине отзывались лестно и охотно. При этом Смоктуновский Гвоздицкого даже превзошёл. Отвечая на вопрос (в разговоре с Анатолием Смелянским), кто из режиссёров дал ему больше всего, назвал не Ромма, не Козинцева, не Рязанова и, ясное дело, не Товстоногова. Больше всего? Шишигин. «Он дал мне основу профессии».
Как это понимать?
До Шишигина умелых режиссёров Смоктуновский не встречал. И педагогов тоже. Учился прямо на сцене (студия при Красноярском театре имени Пушкина не в счёт: там ремеслу не учили, с первых же дней бросали в массовку, потом поручали эпизод – и плыви, как можешь). Но кроме навыков ремесла основу профессии составляют и навыки сопротивления силе, подавляющей тебя. Когда «всё – через страх», а ты не поддаёшься страху, пробиваешься к себе.
Гвоздицкий, вспоминая Шишигина, если и не скрывал остаточную горечь, то выражал её элегически.
«После окончания училища я видел Фирса Ефимовича всего несколько раз. Дипломные спектакли играли без меня. Я был в больнице <…> Через кого-то Фирс передал мне в больницу: "Если выздоровеешь, возьму в театр. "Ревизора" поставлю". Пятёрку по мастерству я получил заочно. И – согласно теории невероятности – выздоровел. Пришёл устраиваться в театр. Было лето, отпуск <…>. Шишигин отдыхал в санатории "Большие Cоли". <…> Вместо ожидаемого: "ну, оформляйся на работу!" ‒ услышал я совсем другое: "Где ты собираешься учиться дальше?". Или так: "Что ты делать дальше собираешься?". Я собирался работать в его театре и репетировать роль Хлестакова. Скорей всего, это моё заявление удивило его ничуть не меньше, чем ещё не сыгранный Арбенин в драмкружке… После недолгого недоумения и разговора о ставках и штатном расписании я получил от учителя рекомендательную записку директору Волковского театра. Автобус ехал из "Больших Солей" долго, и с любопытством я справиться не смог. В записке было следующее: "Парень настолько хочет работать у нас, что просится в монтировщики. Оформи его, дорогой!" <…> С тех пор прошло более тридцати лет, того директора <…> я так никогда и не увидел. А Шишигина видел в Ленинграде. Я работал в Театре Комедии, а напротив, в Пушкинском-Александринском, шли гастроли Волковского театра. Играли какой-то очень родной спектакль о Великой Отечественной войне, с большими массовками в маскхалатах, с настоящими танками, окопами и землянками. Главную роль исполняла Лидия Яковлевна, муза Фирса Ефимовича, занятая во всех его спектаклях, игравшая королев, шикарных иностранок, драматических матерей <…> Я купил много-много букетиков ландышей и широкую белую ленту атласную из Гостиного двора. Мне хотелось подарить большой букет ландышей моему учителю. Я нашёл Шишигина в директорской ложе – одного. Букет он не принял. "Отнеси Лидии Яковлевне!" ‒ сказал Фирс как-то нежно и лукаво. А самая последняя встреча состоялась в Ярославле. В училище, которое уже было вузом. Фирс Ефимович – могучий, не изменившийся и очень красивый – уже не был главным режиссёром первого русского театра, и отсутствие власти ему шло. В вузе для него придумали специальную должность – художественный руководитель. Шишигин был спокоен, тих и внимателен. На своей фотографии для паспорта, сбоку, в полукружке для печати он написал: "Гвоздицкому, которого всегда очень помню". "Других фотографий нет, раздарил поклонницам", ‒ грустно пошутил мастер» [Цит. по: Виктор Гвоздицкий. Последние. М., 2007. С. 23—24].
Как это понимать?
До Шишигина умелых режиссёров Смоктуновский не встречал. И педагогов тоже. Учился прямо на сцене (студия при Красноярском театре имени Пушкина не в счёт: там ремеслу не учили, с первых же дней бросали в массовку, потом поручали эпизод – и плыви, как можешь). Но кроме навыков ремесла основу профессии составляют и навыки сопротивления силе, подавляющей тебя. Когда «всё – через страх», а ты не поддаёшься страху, пробиваешься к себе.
Гвоздицкий, вспоминая Шишигина, если и не скрывал остаточную горечь, то выражал её элегически.
«После окончания училища я видел Фирса Ефимовича всего несколько раз. Дипломные спектакли играли без меня. Я был в больнице <…> Через кого-то Фирс передал мне в больницу: "Если выздоровеешь, возьму в театр. "Ревизора" поставлю". Пятёрку по мастерству я получил заочно. И – согласно теории невероятности – выздоровел. Пришёл устраиваться в театр. Было лето, отпуск <…>. Шишигин отдыхал в санатории "Большие Cоли". <…> Вместо ожидаемого: "ну, оформляйся на работу!" ‒ услышал я совсем другое: "Где ты собираешься учиться дальше?". Или так: "Что ты делать дальше собираешься?". Я собирался работать в его театре и репетировать роль Хлестакова. Скорей всего, это моё заявление удивило его ничуть не меньше, чем ещё не сыгранный Арбенин в драмкружке… После недолгого недоумения и разговора о ставках и штатном расписании я получил от учителя рекомендательную записку директору Волковского театра. Автобус ехал из "Больших Солей" долго, и с любопытством я справиться не смог. В записке было следующее: "Парень настолько хочет работать у нас, что просится в монтировщики. Оформи его, дорогой!" <…> С тех пор прошло более тридцати лет, того директора <…> я так никогда и не увидел. А Шишигина видел в Ленинграде. Я работал в Театре Комедии, а напротив, в Пушкинском-Александринском, шли гастроли Волковского театра. Играли какой-то очень родной спектакль о Великой Отечественной войне, с большими массовками в маскхалатах, с настоящими танками, окопами и землянками. Главную роль исполняла Лидия Яковлевна, муза Фирса Ефимовича, занятая во всех его спектаклях, игравшая королев, шикарных иностранок, драматических матерей <…> Я купил много-много букетиков ландышей и широкую белую ленту атласную из Гостиного двора. Мне хотелось подарить большой букет ландышей моему учителю. Я нашёл Шишигина в директорской ложе – одного. Букет он не принял. "Отнеси Лидии Яковлевне!" ‒ сказал Фирс как-то нежно и лукаво. А самая последняя встреча состоялась в Ярославле. В училище, которое уже было вузом. Фирс Ефимович – могучий, не изменившийся и очень красивый – уже не был главным режиссёром первого русского театра, и отсутствие власти ему шло. В вузе для него придумали специальную должность – художественный руководитель. Шишигин был спокоен, тих и внимателен. На своей фотографии для паспорта, сбоку, в полукружке для печати он написал: "Гвоздицкому, которого всегда очень помню". "Других фотографий нет, раздарил поклонницам", ‒ грустно пошутил мастер» [Цит. по: Виктор Гвоздицкий. Последние. М., 2007. С. 23—24].
кураж птенца
Виктор Александрович Давыдов, которого на вступительных экзаменах Витя так позабавил (тем, что сыграть Арбенина не успел ещё), на самом деле был против его зачисления. А с началом учебного процесса только укрепился в том, что Гвоздицкий – это ошибка.
– Мальчик живой, куражистый, – говорил он коллегам, – но не искренний, бог знает что воображает о себе, эффекта хочет любой ценой.
Владислав Иванович Цветков, очередной, как и Давыдов, режиссёр Волковского театра, был снисходительней:
– Он ещё слишком юн, со временем образумится.
– Нет, – настаивал Давыдов, – у него натура подпорченная, с вывихом штукарским, и уже сейчас на физиономии написано, что на столбовой дороге русского искусства делать ему нечего. Лишний раз убеждаешься: Фирс Ефимович в корень смотрит, как всегда.
Ссылка на Фирса Ефимовича исключала продолжение дискуссии.
Вскоре, впрочем, в газете «Северный рабочий» появилась статья, из которой следовало, что на столбовой дороге нечего делать как раз Давыдову. Новый его спектакль разгневал областное начальство и был запрещён, а самого Давыдова из театра уволили. Ваняшова пишет, что главный режиссёр пытался отстоять очередного, но вынужден был пожертвовать им.
Витя меж тем и на четвёртом – выпускном – курсе продолжал озадачивать и огорчать педагогов своей, как они считали, инфантильной претенциозностью. Цветков, один из немногих, кто симпатизировал ему, попытался достучаться до него, поговорить по душам:
– Скажите, Виктор. Скажите, не таясь, как сказали бы другу, товарищу. Вы отдаёте себе отчёт в своей затянувшейся социально-психологической дезадаптации?
Поскольку Владислав Иванович имел обыкновение в самые неподходящие моменты впадать в ересь неслыханной непростоты, постольку по душам – не вышло.
Однажды Макарова и Цветков поручили студентам самостоятельно выбрать и показать какой-нибудь монолог. Выходит студент Цурило. Представляется: «Юрий Цурило». Объявляет: «Михаил Юрьевич Лермонтов. Монолог Арбенина из драмы "Маскарад"». Выходит студент Астафьев: «Юрий Астафьев. Александр Сергеевич Грибоедов. Монолог Чацкого из комедии "Горе от ума"». Выходит студент Шубников: «Виктор Шубников. Лев Николаевич Толстой. Монолог Феди Протасова из драмы "Живой труп"». Ну и девушки не отстают, все выходят с чем-то серьёзным, значительным. Одна выбрала Нину Заречную: как пьяные купцы к ней приставали. Другая – Катерину: почему люди не летают, как птицы.
А что же студент Гвоздицкий?
– Виктор Гвоздицкий. Виктор Голявкин. «Рисунок». Рассказ.
Присутствующие (показ и его разбор открыты для всего училища) перешёптываются, некоторые хихикают: что ещё за Голявкин? А те, кто имеет представление об авторе (по детским журналам, как и сам Витя), качают головой. Неодобрительно.
Рассказ короткий. Приведу его полностью.
«Алёша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца.
– Чего здесь не хватает? – спросил он папу.
– Всего здесь достаточно, – ответил папа.
– Чего здесь недостаточно? – спросил он брата.
– Всего хватает, – сказал брат.
Тогда Алёша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами:
И ЕЩЁ ПЕЛИ ПТИЦЫ.
– Вот теперь, – сказал он, – всего хватает».
Гвоздицкий заканчивает читать. После тягостной паузы Лидия Яковлевна задаёт ему вопрос:
– Это всё?
– Всё.
Она в растерянности. Не знает, что сказать. Присутствовал бы при этом Шишигин, не миновать бы Вите выволочки. Но мастера нет. Четвёртый курс почему-то разочаровал его, все сразу опротивели, обрыдли, так что занятия мастер совсем перестал вести, отдал на откуп Макаровой и Цветкову.
– А что? – вскидывается Владислав Иванович, иногда (в отмеренных Фирсом пределах) исполняющий роль оппонента со странностями. – - Оригинально, где-то даже смело. Но, видите ли, мой друг, завуалированное кви-про-кво с эмоциональным выбросом не слишком убедительно в вашей работе.
Затем, насладившись обморочной тишиной аудитории, Цветков победоносно удаляется.
Перерыв. Лидия Яковлевна подзывает Гвоздицкого, хочет о чём-то спросить, но колеблется. Витя готов к обычному: кто твоя мама? Но вопрос другой, тон сокрушённо-сочувственный:
– Когда ты повзрослеешь, наконец?
– Мальчик живой, куражистый, – говорил он коллегам, – но не искренний, бог знает что воображает о себе, эффекта хочет любой ценой.
Владислав Иванович Цветков, очередной, как и Давыдов, режиссёр Волковского театра, был снисходительней:
– Он ещё слишком юн, со временем образумится.
– Нет, – настаивал Давыдов, – у него натура подпорченная, с вывихом штукарским, и уже сейчас на физиономии написано, что на столбовой дороге русского искусства делать ему нечего. Лишний раз убеждаешься: Фирс Ефимович в корень смотрит, как всегда.
Ссылка на Фирса Ефимовича исключала продолжение дискуссии.
Вскоре, впрочем, в газете «Северный рабочий» появилась статья, из которой следовало, что на столбовой дороге нечего делать как раз Давыдову. Новый его спектакль разгневал областное начальство и был запрещён, а самого Давыдова из театра уволили. Ваняшова пишет, что главный режиссёр пытался отстоять очередного, но вынужден был пожертвовать им.
Витя меж тем и на четвёртом – выпускном – курсе продолжал озадачивать и огорчать педагогов своей, как они считали, инфантильной претенциозностью. Цветков, один из немногих, кто симпатизировал ему, попытался достучаться до него, поговорить по душам:
– Скажите, Виктор. Скажите, не таясь, как сказали бы другу, товарищу. Вы отдаёте себе отчёт в своей затянувшейся социально-психологической дезадаптации?
Поскольку Владислав Иванович имел обыкновение в самые неподходящие моменты впадать в ересь неслыханной непростоты, постольку по душам – не вышло.
Однажды Макарова и Цветков поручили студентам самостоятельно выбрать и показать какой-нибудь монолог. Выходит студент Цурило. Представляется: «Юрий Цурило». Объявляет: «Михаил Юрьевич Лермонтов. Монолог Арбенина из драмы "Маскарад"». Выходит студент Астафьев: «Юрий Астафьев. Александр Сергеевич Грибоедов. Монолог Чацкого из комедии "Горе от ума"». Выходит студент Шубников: «Виктор Шубников. Лев Николаевич Толстой. Монолог Феди Протасова из драмы "Живой труп"». Ну и девушки не отстают, все выходят с чем-то серьёзным, значительным. Одна выбрала Нину Заречную: как пьяные купцы к ней приставали. Другая – Катерину: почему люди не летают, как птицы.
А что же студент Гвоздицкий?
– Виктор Гвоздицкий. Виктор Голявкин. «Рисунок». Рассказ.
Присутствующие (показ и его разбор открыты для всего училища) перешёптываются, некоторые хихикают: что ещё за Голявкин? А те, кто имеет представление об авторе (по детским журналам, как и сам Витя), качают головой. Неодобрительно.
Рассказ короткий. Приведу его полностью.
«Алёша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца.
– Чего здесь не хватает? – спросил он папу.
– Всего здесь достаточно, – ответил папа.
– Чего здесь недостаточно? – спросил он брата.
– Всего хватает, – сказал брат.
Тогда Алёша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами:
И ЕЩЁ ПЕЛИ ПТИЦЫ.
– Вот теперь, – сказал он, – всего хватает».
Гвоздицкий заканчивает читать. После тягостной паузы Лидия Яковлевна задаёт ему вопрос:
– Это всё?
– Всё.
Она в растерянности. Не знает, что сказать. Присутствовал бы при этом Шишигин, не миновать бы Вите выволочки. Но мастера нет. Четвёртый курс почему-то разочаровал его, все сразу опротивели, обрыдли, так что занятия мастер совсем перестал вести, отдал на откуп Макаровой и Цветкову.
– А что? – вскидывается Владислав Иванович, иногда (в отмеренных Фирсом пределах) исполняющий роль оппонента со странностями. – - Оригинально, где-то даже смело. Но, видите ли, мой друг, завуалированное кви-про-кво с эмоциональным выбросом не слишком убедительно в вашей работе.
Затем, насладившись обморочной тишиной аудитории, Цветков победоносно удаляется.
Перерыв. Лидия Яковлевна подзывает Гвоздицкого, хочет о чём-то спросить, но колеблется. Витя готов к обычному: кто твоя мама? Но вопрос другой, тон сокрушённо-сочувственный:
– Когда ты повзрослеешь, наконец?
***
Алла Михалёва, театровед (когда-то мы вместе работали в издательстве «Союзтеатр», потом в «Московском наблюдателе»), в юности собиралась стать актрисой и приехала учиться в Ярославль. Потом, в Москве, она вышла замуж за актёра Михаила Янушкевича, и они вдвоем дружески общались с Гвоздицким до последних дней его жизни.
– В сентябре шестьдесят девятого – рассказала мне Алла – я только что поступила на актёрский и вместе с двумя сокурсницами, Натальей Балушковой и Галиной Круть, искала, где бы снять жильё. Хотя мы были иногородние, мест в общежитии нам почему-то не выделили. Сидим на лавочке у театра, обсуждаем, что делать. Услышав наш разговор, какая-то женщина вызывается нам помочь и даёт адрес квартиры, которую сдают недорого. Мы идём по этому адресу, звоним в дверь. Нам открывает курчавый парень, похожий (так нам троим сразу же показалось) на Пушкина. Выяснилось, что он тоже учится в театральном. На третьем курсе. Возможно, поэтому он стал держаться с нами как старший с младшими, хотя мы были старше его на два-три года. Он пригласил нас в комнату и первым делом доверительно сказал, что ловить тут нечего, что он и сам съезжает отсюда, потому что хозяйка – алкоголичка невозможная. Не помню, о чём он говорил тогда, но – легко и весело. Помню ощущение лёгкого, беззлобного и без тени саркастичности остроумия. Фейерверк! Спектакль одного актёра! Я раньше таких людей не видела. Его же впечатление от этой встречи, как нам передали, было таким: приходили три девицы; одна – секс-бомба, другая – себе приглядывает, а третья – просто дура (то бишь я).
Потом он снял угол, пригодный разве что для ночлега. А у нас на троих была отдельная комната – царские условия. Жили мы с ним по соседству, и он каждый день, забегал к нам и сообщал все новости и слухи. Сдружились, в общем.
Он мне говорил: «Ты и представить себе не можешь, что будет, когда тебе исполнится двадцать лет». – «А что будет?» – «Все мужчины будут твоими».
Эти слова произвели на меня впечатление (я тогда вообще всему верила). И вот иду я по Ярославлю, мечтательная вся. Замечаю: мужчина какой-то, вроде солидный и вполне ничего себе, явно обратил на меня внимание и даже пошёл следом за мной. Я иду, виду не подаю, будто ничего не замечаю. Наконец он догоняет меня: «Девушка, вы паспорт потеряли».
Об этой истории я рассказала Вите. И свой рассказ заключила так: «А я-то думала, началось».
Я имела в виду, что его пророчество начинает сбываться. А он всё это превратил в дразнилку двусмысленную. Вдруг ни с того ни сего, в самый неподходящий момент и с непроницаемо серьёзным видом спрашивает: «Алка, у тебя началось?»
Однажды мы втроём – Витя, Таня Кузнецова (его сокурсница) и я – пришли пить водку на берег Волги. Бутылка была на троих. Выпив, он стал бегать, прыгать и орать. А потом улёгся на мостовой. Пить не умел, но куражился. Не хотел отставать от других. На своём курсе он был младше всех. Там и девочки были рано повзрослевшие (скажем так); и мужики под тридцать, работавшие в театрах провинции и поступившие на актёрский, чтобы получить диплом и чтобы им категорию повысили. Если Цурило, к примеру, был демонический амбал, то Витя с ним рядом – птенец.
– В сентябре шестьдесят девятого – рассказала мне Алла – я только что поступила на актёрский и вместе с двумя сокурсницами, Натальей Балушковой и Галиной Круть, искала, где бы снять жильё. Хотя мы были иногородние, мест в общежитии нам почему-то не выделили. Сидим на лавочке у театра, обсуждаем, что делать. Услышав наш разговор, какая-то женщина вызывается нам помочь и даёт адрес квартиры, которую сдают недорого. Мы идём по этому адресу, звоним в дверь. Нам открывает курчавый парень, похожий (так нам троим сразу же показалось) на Пушкина. Выяснилось, что он тоже учится в театральном. На третьем курсе. Возможно, поэтому он стал держаться с нами как старший с младшими, хотя мы были старше его на два-три года. Он пригласил нас в комнату и первым делом доверительно сказал, что ловить тут нечего, что он и сам съезжает отсюда, потому что хозяйка – алкоголичка невозможная. Не помню, о чём он говорил тогда, но – легко и весело. Помню ощущение лёгкого, беззлобного и без тени саркастичности остроумия. Фейерверк! Спектакль одного актёра! Я раньше таких людей не видела. Его же впечатление от этой встречи, как нам передали, было таким: приходили три девицы; одна – секс-бомба, другая – себе приглядывает, а третья – просто дура (то бишь я).
Потом он снял угол, пригодный разве что для ночлега. А у нас на троих была отдельная комната – царские условия. Жили мы с ним по соседству, и он каждый день, забегал к нам и сообщал все новости и слухи. Сдружились, в общем.
Он мне говорил: «Ты и представить себе не можешь, что будет, когда тебе исполнится двадцать лет». – «А что будет?» – «Все мужчины будут твоими».
Эти слова произвели на меня впечатление (я тогда вообще всему верила). И вот иду я по Ярославлю, мечтательная вся. Замечаю: мужчина какой-то, вроде солидный и вполне ничего себе, явно обратил на меня внимание и даже пошёл следом за мной. Я иду, виду не подаю, будто ничего не замечаю. Наконец он догоняет меня: «Девушка, вы паспорт потеряли».
Об этой истории я рассказала Вите. И свой рассказ заключила так: «А я-то думала, началось».
Я имела в виду, что его пророчество начинает сбываться. А он всё это превратил в дразнилку двусмысленную. Вдруг ни с того ни сего, в самый неподходящий момент и с непроницаемо серьёзным видом спрашивает: «Алка, у тебя началось?»
Однажды мы втроём – Витя, Таня Кузнецова (его сокурсница) и я – пришли пить водку на берег Волги. Бутылка была на троих. Выпив, он стал бегать, прыгать и орать. А потом улёгся на мостовой. Пить не умел, но куражился. Не хотел отставать от других. На своём курсе он был младше всех. Там и девочки были рано повзрослевшие (скажем так); и мужики под тридцать, работавшие в театрах провинции и поступившие на актёрский, чтобы получить диплом и чтобы им категорию повысили. Если Цурило, к примеру, был демонический амбал, то Витя с ним рядом – птенец.
беда
Весной 1971-го начались преддипломные показы. Михалёвой запомнилось, что Витя был хорош в водевиле «Беда от нежного сердца».
Беда от нежного сердца той весной приключилась и с ним самим, только далеко не водевильная.
Компания сокурсников, скинувшись по три рубля, явилась в ресторан при гостинице «Медведь», чтобы отметить сдачу зачёта, совпавшую с получением стипендии. Играл оркестр. Танцевали. Какие-то приезжие (в отголосках скандального происшествия они будут фигурировать то как «болгары», то как «мадьяры») положили глаз на студенток Ларису, Свету и Таню. К домогательствам случайных ухажёров Лариса, Света и Таня отнеслись благосклонно, остальные участники застолья не вмешивались, а Витя – он был пьянее всех – вообразил, что девушки нуждаются в защите и, когда приезжие уводили их к себе в номера, спровоцировал драку. Непрошеный защитник избит был страшно. В больнице определили: перелом пирамиды височной кости, ущемление лицевого нерва и частичная потеря речи.
С таким букетом – забудь об актёрской профессии.
Посетителей к нему не пускали, но мнение врачей распространилось в училище быстро, и мало кто верил, что может случиться чудо. Диплом ему бы выдали и так, да толку-то: на стену повесь и любуйся. Тогда-то Шишигин и передал в больницу: «Если выздоровеешь, возьму в театр. "Ревизора" поставлю». Вероятно, потому и не запомнил этих слов, что они были не деловым обязательством, а только неловкой попыткой морально поддержать в безвыходной ситуации.
Так или иначе, в тот момент, когда жизнь курса вышла на финишную прямую, Витя сошёл с дистанции. Оказался в положении постороннего и осознал себя таковым. Все перед будущим были равны, все полноценны, и только он… только он...
Теплилась, правда, надежда – слабая, очень слабая – на кудесника дядю Ваню, Ивана Петровича Семенютина, дальнего родственника, работавшего в киевском Институте нейрохирургии. Родители с ним созвонились, он пробурчал в трубку, что ничего не обещает, но помочь попробует. Проведя три недели в ярославской больнице, Витя – бледный, потерянный – отправился в Киев. Один. На вокзале провожала его только Алла.
Вот поезд трогается с места, потихоньку набирает ход, а она всё бежит по перрону и машет, машет рукой.
Беда от нежного сердца той весной приключилась и с ним самим, только далеко не водевильная.
Компания сокурсников, скинувшись по три рубля, явилась в ресторан при гостинице «Медведь», чтобы отметить сдачу зачёта, совпавшую с получением стипендии. Играл оркестр. Танцевали. Какие-то приезжие (в отголосках скандального происшествия они будут фигурировать то как «болгары», то как «мадьяры») положили глаз на студенток Ларису, Свету и Таню. К домогательствам случайных ухажёров Лариса, Света и Таня отнеслись благосклонно, остальные участники застолья не вмешивались, а Витя – он был пьянее всех – вообразил, что девушки нуждаются в защите и, когда приезжие уводили их к себе в номера, спровоцировал драку. Непрошеный защитник избит был страшно. В больнице определили: перелом пирамиды височной кости, ущемление лицевого нерва и частичная потеря речи.
С таким букетом – забудь об актёрской профессии.
Посетителей к нему не пускали, но мнение врачей распространилось в училище быстро, и мало кто верил, что может случиться чудо. Диплом ему бы выдали и так, да толку-то: на стену повесь и любуйся. Тогда-то Шишигин и передал в больницу: «Если выздоровеешь, возьму в театр. "Ревизора" поставлю». Вероятно, потому и не запомнил этих слов, что они были не деловым обязательством, а только неловкой попыткой морально поддержать в безвыходной ситуации.
Так или иначе, в тот момент, когда жизнь курса вышла на финишную прямую, Витя сошёл с дистанции. Оказался в положении постороннего и осознал себя таковым. Все перед будущим были равны, все полноценны, и только он… только он...
Теплилась, правда, надежда – слабая, очень слабая – на кудесника дядю Ваню, Ивана Петровича Семенютина, дальнего родственника, работавшего в киевском Институте нейрохирургии. Родители с ним созвонились, он пробурчал в трубку, что ничего не обещает, но помочь попробует. Проведя три недели в ярославской больнице, Витя – бледный, потерянный – отправился в Киев. Один. На вокзале провожала его только Алла.
Вот поезд трогается с места, потихоньку набирает ход, а она всё бежит по перрону и машет, машет рукой.
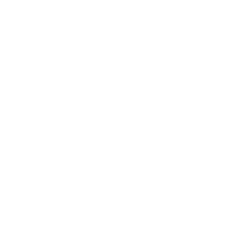
Валерий Семеновский
Всё из раздела «Практика»

