Общие вопросы
«Потому что у нас все роли главные»
Алёна Ходыкова
О (не) герое новейшей драматургии и его сценическом воплощении
Новая драма рубежа XIX-XX веков "подсказала" новый – режиссерский – театр. Новая новая драма рубежа XX-XXI веков с современным театром в сложных отношениях. «Пьеса и театр представляют сегодня странную парочку разводящихся супругов, что таят друг на друга массу обид, подчас скандалят и бьют посуду, однако все еще живут под одной крышей, сами не зная почему» [Скороход Н.С. Театр как прием, а текст как стихия // Петербургский театральный журнал. 2019. №95. С. 30], – пишет об этом Наталья Скороход. Взаимоотношение новых пьес и современного театра, поиск «новой сценической условности», а также фигура героя, которого предлагает театру (и читателю) современная драматургия – интересные вопросы для размышлений.
Процесс размывания «Героя» в русскоязычной драматургии начался еще в эпоху рубежа веков, когда в пьесах А.П. Чехова главного персонажа заменила «группа лиц без центра». Помимо этого, меняется и действенная природа героя – можно сказать, что он становится более «пассивным», будто осознавая тотальную невозможность повлиять на мир. На новом рубеже веков новодрамовские теоретики скорее говорят об устаревании терминов «конфликт» и «действие», чем об отсутствии таковых в пьесах, хотя и не отрицают снижения драматического напряжения и действенности. В пьесах «идет постепенное ослабление собственно драматического (фабула, характеры, интрига) и усиление игры с эпическим (пространство, время), а также собственно сценическим (комментарий действия – ремарка, особые отношения персонаж-актер-роль и т.п.)» [Скороход Н.С. Анализ постдрамы: Феномен Золушки // Вопросы театра. 2014. №1. С.48].
Процесс размывания «Героя» в русскоязычной драматургии начался еще в эпоху рубежа веков, когда в пьесах А.П. Чехова главного персонажа заменила «группа лиц без центра». Помимо этого, меняется и действенная природа героя – можно сказать, что он становится более «пассивным», будто осознавая тотальную невозможность повлиять на мир. На новом рубеже веков новодрамовские теоретики скорее говорят об устаревании терминов «конфликт» и «действие», чем об отсутствии таковых в пьесах, хотя и не отрицают снижения драматического напряжения и действенности. В пьесах «идет постепенное ослабление собственно драматического (фабула, характеры, интрига) и усиление игры с эпическим (пространство, время), а также собственно сценическим (комментарий действия – ремарка, особые отношения персонаж-актер-роль и т.п.)» [Скороход Н.С. Анализ постдрамы: Феномен Золушки // Вопросы театра. 2014. №1. С.48].
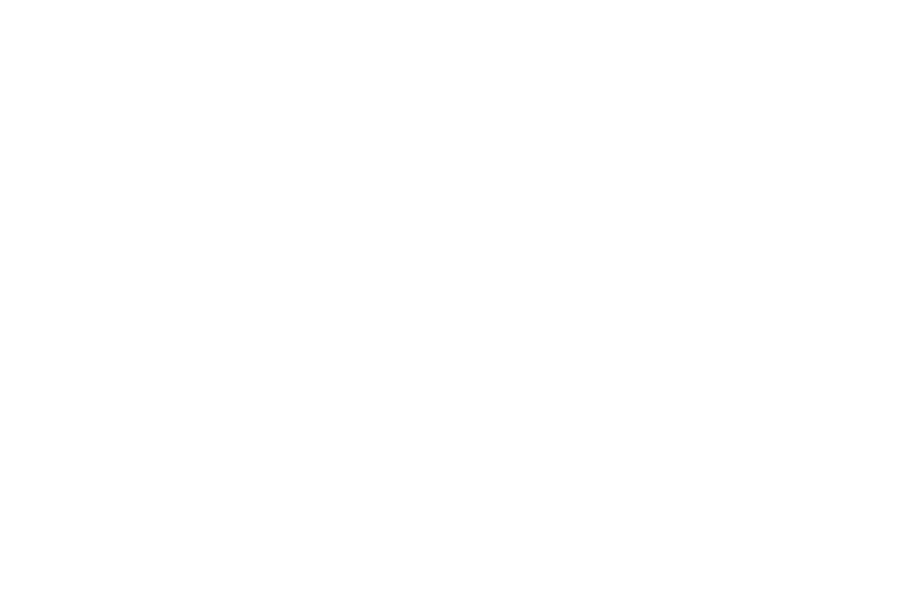
«Герб города Эн»
из архива Камерного театра Малыщицкого
из архива Камерного театра Малыщицкого
Специфика новой драмы конца девяностых – начала нулевых определяется мощными социальными переменами: промежуток между концом советского периода и неопределенно-мерцающей «другой» Россией образует временную бездну, из этого раскола и возникают герои пьес. Современного героя определяет состояние «кризис идентичности», эта категория кажется актуальной и в новейшей драматургии.
Персонажи уральского драматурга Николая Коляды – потерянные герои, которых автор условно разделяет на «старых» и «новых»: и те, и другие через свой «статус» пытаются обрести устойчивость. Например, в «Полонезе Огинского» (1993) Коляда, постмодернистски преломляя чеховские мотивы, создает новый «Вишневый сад» с Раневской – Татьяной из Америки, в стране-мечте ничего хорошего не нашедшей и вернувшейся в отчий дом, чтобы обнаружить этого дома отсутствие. Коляда – драматург разрыва, с магнитофонной точностью фиксирующий речевые сдвиги, с психологической тонкостью – внутренние конфликты людей постсоветского пространства.
Персонажи уральского драматурга Николая Коляды – потерянные герои, которых автор условно разделяет на «старых» и «новых»: и те, и другие через свой «статус» пытаются обрести устойчивость. Например, в «Полонезе Огинского» (1993) Коляда, постмодернистски преломляя чеховские мотивы, создает новый «Вишневый сад» с Раневской – Татьяной из Америки, в стране-мечте ничего хорошего не нашедшей и вернувшейся в отчий дом, чтобы обнаружить этого дома отсутствие. Коляда – драматург разрыва, с магнитофонной точностью фиксирующий речевые сдвиги, с психологической тонкостью – внутренние конфликты людей постсоветского пространства.
В пьесах Василия Сигарева, ученика драматургической школы Коляды, окружающий одинокого героя мир предстает как актор насилия, а герой – жертвой. В «драмах крика» Сигарева – «Пластилин» и «Волчок» – гиперреалистично, с обнаженной травматичностью автор демонстрирует героя в столкновении с реальностью, который этой реальности проигрывает и ожесточается ей в угоду. Пьесы Сигарева имеют монодраматическую природу: внешний мир центрируется и преломляется через главного героя. Мальчик Максим из «Пластилина» и Девочка-Волчок, испытывая на себе коллективную травму времени, этому миру чужды, потому что не жестоки и чувственны. Их присутствие высвечивает неправильность миропорядка – потому в конце они и погибают.
Московская ветка «новой драмы» определяется двумя близкими друг другу центрами: независимый драматургический фестиваль «Любимовка», возникший в 1990 году, и «Театр.doc», созданный Михаилом Угаровым и Еленой Греминой. Документальность, вербатим, репрезентация социально-политических проблем, внимание к жизни маргиналов – эти черты характерны и для драматургии авторов, близких к московской школе, и в целом для пьес первой новодрамовской волны. Следствие затяжного соцреалистического молчания – выплеск острых, жестких и прямолинейных текстов (например, «Сентябрь. doc» (2005) Угарова и Греминой о бесланской трагедии). Облик героев документальных пьес определяет сама реальность.
Московская ветка «новой драмы» определяется двумя близкими друг другу центрами: независимый драматургический фестиваль «Любимовка», возникший в 1990 году, и «Театр.doc», созданный Михаилом Угаровым и Еленой Греминой. Документальность, вербатим, репрезентация социально-политических проблем, внимание к жизни маргиналов – эти черты характерны и для драматургии авторов, близких к московской школе, и в целом для пьес первой новодрамовской волны. Следствие затяжного соцреалистического молчания – выплеск острых, жестких и прямолинейных текстов (например, «Сентябрь. doc» (2005) Угарова и Греминой о бесланской трагедии). Облик героев документальных пьес определяет сама реальность.
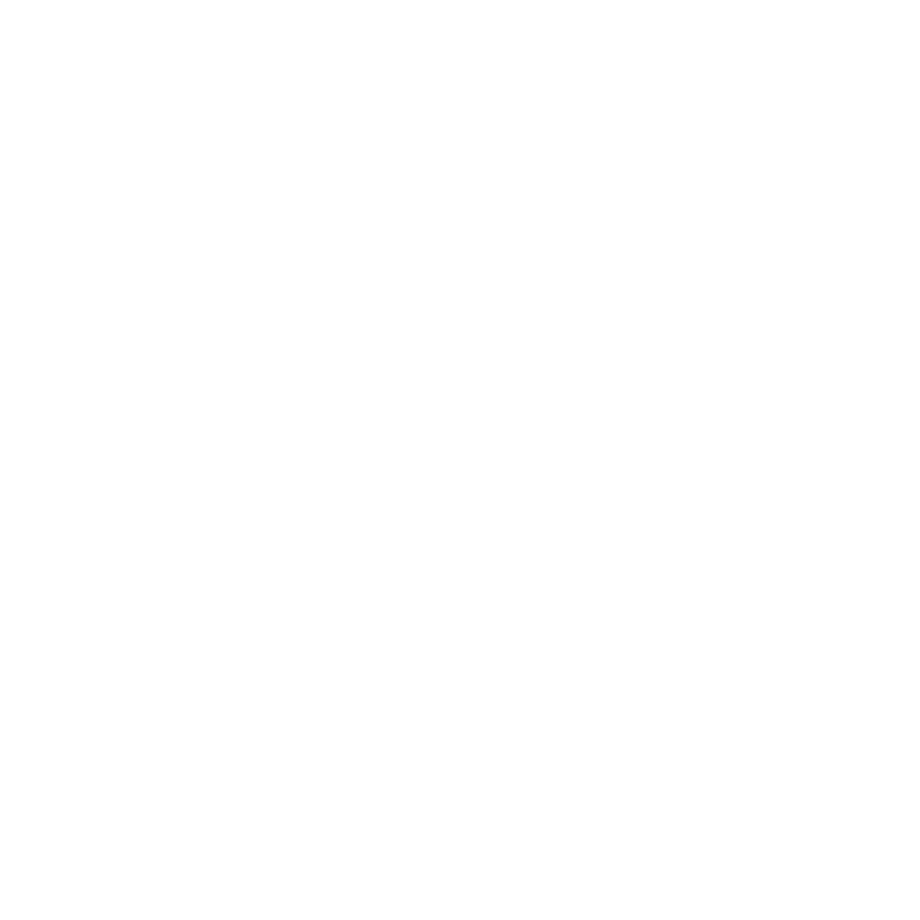
«Кислород»
из архива Театра.doc
из архива Театра.doc
В «Театре. doc» также существовал вектор драм о мигрантах – «Борьба молдован за картонную коробку» (2003) Александра Родионова, вербатим «Акын-опера» (2012) – в которых звучали голоса реальных людей, ежедневно сталкивающихся с несправедливостью. Во вторую волну новой драмы эта тема также является актуальной («Магазин» Олжаса Жанайдарова о мерцающих фигурах рабыни и госпожи на материале документальной истории о московских ларьках сейчас ставится во многих театрах), но порой видоизменяется: в документальную структуру вплетаются сказочные или мифологические элементы. В пьесе «Тахир и Зухра» (2021) Зухры Яниковой восточная сказка о трагической любви влюбленных накладывается на мигрантские реалии: из-за упрямого хозяина стройки скорая не успевает помочь беременной Зухре, и она умирает, а Тахиру остается лишь воспитывать дочь Зухры с новой невесткой.
Образ героя-жертвы, характерный для пьес девяностых-нулевых, разрушается в «Кислороде» (2003) Ивана Вырыпаева, самого репертуарного новодрамовского автора. Юные герои «Кислорода» ищут способ действия в новой реальности, переосмысляя старые каноны и провозглашая своим законом любовь и свободу. Но интересно, что дальше у Ивана Вырыпаева в пьесах действуют не самоценные герои, а марионетки в руках драматурга-демиурга, через них или поверх них транслирующего свои нео-проповеди в форме персонажной нео-исповеди – часто буддистского толка. Так, допустим, в «Пьяных» (2014) героям с различными взглядами на мир, со своими жизненными драмами, посредством опьянения является божественное откровение. В «Иранской конференции» (2019) все рациональные или эмпирические доводы об «иранской проблеме» разбиваются о поэзию и танец иранской женщины. Если отнестись к героям Вырыпаева серьезно и смотреть на них как на людей с какими-то мотивами и логикой, то вместо философских пьес получатся мелодрамы. Персонажи сделаны так, что от актера нужно одновременно и вживание, и дистанцирование, и вера в их истинность, и ироническое отстранение – именно через актера и его игру обретает выражение странный поток сложного текста пьес, балансирующий между реальностью и иллюзорностью. Однако сценический подход к этим пьесам был найден – что доказывает театральная практика.
"Монотония"
Фото Стаса Левшина
"Простите, это все я"
Фото Риты Денисовой
Читка пьесы "Исход" Полины Бородиной на фестивале "Любимовка"
Фото Даши Керетниковой
В новейшей драматургии 2010-х–20-х годов наблюдается несколько тенденций, определяющих главного персонажа. Герой либо заполняет собой все пространство, ведя читателя и зрителя по пути своей рефлексии и преломляя через собственное сознание внешнюю событийность (это исследователи называют «новым монодраматизмом», отсылая к «монодраме», придуманной Н.Н. Евреиновым), либо герой становится невидимкой, растворяется, превращаясь в безличного «среднего» человека.
Показателен герой «Запертой двери» (2010) Павла Пряжко – асексуал без зависимостей Валера, которому приходится имитировать жизнь, потому что социально «не жить» как-то не принято. Обычно же в пьесах Пряжко действуют в меру быдловатые обыватели, лишь слегка выделяющиеся на фоне пейзажа: разговоры персонажей не более значительны и действенны, чем развевающиеся на дереве ленточки или на балконе – трусы, а центром становится невидимый автор, словно управляющий широкоугольным объективом камеры. Пассивность героя белорусского драматурга в каком-то смысле отражает пассивность человека внутри тоталитарной системы. Эта же социальная реальность порождает минус-героя российского драматурга Дмитрия Данилова: Человека из Подольска на борьбу провоцирует само государство (в лице полиции), но человек стоически не поддается, оставаясь в ноль-позиции, в которой его частную жизнь ничто не потревожит.
Показателен герой «Запертой двери» (2010) Павла Пряжко – асексуал без зависимостей Валера, которому приходится имитировать жизнь, потому что социально «не жить» как-то не принято. Обычно же в пьесах Пряжко действуют в меру быдловатые обыватели, лишь слегка выделяющиеся на фоне пейзажа: разговоры персонажей не более значительны и действенны, чем развевающиеся на дереве ленточки или на балконе – трусы, а центром становится невидимый автор, словно управляющий широкоугольным объективом камеры. Пассивность героя белорусского драматурга в каком-то смысле отражает пассивность человека внутри тоталитарной системы. Эта же социальная реальность порождает минус-героя российского драматурга Дмитрия Данилова: Человека из Подольска на борьбу провоцирует само государство (в лице полиции), но человек стоически не поддается, оставаясь в ноль-позиции, в которой его частную жизнь ничто не потревожит.
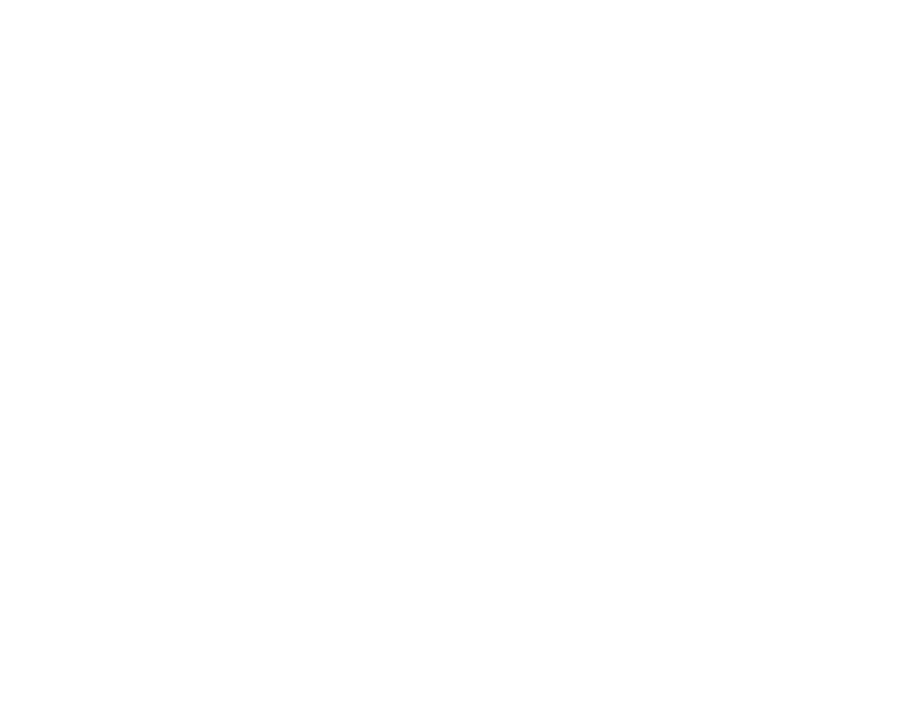
«Пластилин»
из архива Центра драматургии и режиссуры
из архива Центра драматургии и режиссуры
Исследователь Павел Руднев в знаковой книге «Драма памяти» характеризует героев новой драмы первой волны, используя не очень этичное слово «виктимность»: все же герой-жертва предстает таковым на фоне гипернасилия окружающей реальности. Те персонажи существовали в позиции «недеяния», вступая из-за этого в конфликт с миром. Герой новой драмы первой волны еще как будто боялся демонстрации саморефлексии, но теперь, в психотерапевтическую эпоху, герой второй половины 2010-х–20-х через саморефлексию пытается преодолеть энтропию и повлиять на равнодушный мир. «…Новая молодая драматургия, выросшая уже не в посттравматическом, постсоветском обществе, а значительно позже, в ровные двухтысячные, перестала будить публику документальными пьесами и кровавыми сюжетами. А напротив, сосредоточилась на жизни среднестатистического человека, в меру скучного и достаточно образованного» [Сизова М. И. Не аристотелевская драматургия // Современная драматургия. 2020. №1. С. 214], – пишет исследовательница Мария Сизова.
Чем не герой времени Моисей-Андрей из «Исхода» (2018) Полины Бородиной? Обычный горожанин с двумя работами, нелюбимой женой и ребенком-аутистом. Жизнь его трудна и безрадостна, потому Андрей решает вырваться из липкого круговорота повседневности, придумывает себе амнезию и становится Моисеем. Вот такой путь героя – инфантильное убегание. В конце, правда, против воли возвратившись домой, он что-то понимает: «Тихо идет к выходу. Останавливается перед дверью, возвращается, аккуратно целует в лоб [сына – А.Х.] Витю».
Так вот о монодраме. В новейшей драматургии это один из самых интересных жанров: он одновременно отражает мироощущение современного человека и провоцирует театр на поиски нового сценического языка.
Влияние монодрам-моноспектаклей Евгения Гришковца с его исповедальностью, конечно, велико, но лирический герой Гришковца – мужчина-неудачник, задушевно посвящающий зрителя в свое неказистое бытие, очень разнится с современными героями. И прежде всего – героинями, чей голос в новейшей драматургии звучит все громче.
Эти стойкие, но хрупкие героини прекрасны тем, что осознают слабость как силу. Например, обнажают травму, чтобы отрефлексировать ее и продолжить свой нелегкий путь. Так, в пьесе «Мама» (2016) Аси Волошиной, ученицы петербургской драматургической школы Натальи Скороход, сюжетом монолога героини становится переживание смерти матери, случившейся в детстве девушки. Здесь через предельно личное, субъективное письмо с конкретными локальными событиями отражается и окружающий мир, и общечеловеческий опыт. Каждое письмо умершей матери становится поводом для рассказа героини о себе, с Я-героини в каком-то из преломлений ее судьбы происходит самоидентификация, ведь переживаемые ею состояния базовые – любовь, депрессия или утрата. Интонация Волошиной далека от мелодраматической, она скорее иронично-лирическая. В другой пьесе про переживание утраты – «Человек в закрытой комнате» (2021) Татьяны Загдай – интонация вообще комедийная. Это не монодрама, а скорее пьеса с монодраматическими элементами: большую часть текста составляют монологи Жанны с умершим отцом, то есть – практически с самой собой.
Драматург Мария Огнева, например, использует монодраматическую форму в полудокументальной-полуфантастической пьесе «За белым кроликом» (2018): история жестокого убийства двух студенток, сплетенное с сюжетом «Алисы в стране чудес» – воспоминание подруги погибших девушек, одновременно и социальная драма, и рефлексия трагических событий.
По-феминистски сильная героиня представлена в медитативной монодраме Лидии Головановой «Плотник» (2020): девушка всю пьесу медленно и упорно строит дом на каркасе шалаша своего деда. Почти ничего, кроме описания физических действий, но в конце, когда дом построен, происходит, с одной стороны – эмоциональное очищение, с другой – самоутверждение героини в мире.
Во вторую волну новой драмы никуда не исчезают острые документальные или полудокументальные тексты (среди них все больше становится пьес на тему колониальности). Но в конце 2010-х – начале 2020-х годов кажется, что многие герои пьес только и делают, что занимаются саморефлексией и переживанием травмы, поиском идентичности и определением себя в мире. И заняты этим не только героини – например, главный персонаж пьесы «Камень глупости» белорусского драматурга Константина Стешика заболевает ощущением бессмысленности жизни и пускается в дрейф по городу, чтобы как-то этот смысл обрести. Драматурги высвечивают маленькие трагедии повседневности обычного человека, как бы делая их тоже значимыми, потому что не бывает незначимых людей. В условно ровные нулевые-десятые годы авторы «растерянного поколения» как будто получили возможность погрузиться в экзистенциальные глубины человека: чтобы как-то действовать и влиять на мир, нужно осознать свое место в реальности и саму реальность… Тем более, что ответственность за себя – это принципиально активная позиция персонажа.
Так вот о монодраме. В новейшей драматургии это один из самых интересных жанров: он одновременно отражает мироощущение современного человека и провоцирует театр на поиски нового сценического языка.
Влияние монодрам-моноспектаклей Евгения Гришковца с его исповедальностью, конечно, велико, но лирический герой Гришковца – мужчина-неудачник, задушевно посвящающий зрителя в свое неказистое бытие, очень разнится с современными героями. И прежде всего – героинями, чей голос в новейшей драматургии звучит все громче.
Эти стойкие, но хрупкие героини прекрасны тем, что осознают слабость как силу. Например, обнажают травму, чтобы отрефлексировать ее и продолжить свой нелегкий путь. Так, в пьесе «Мама» (2016) Аси Волошиной, ученицы петербургской драматургической школы Натальи Скороход, сюжетом монолога героини становится переживание смерти матери, случившейся в детстве девушки. Здесь через предельно личное, субъективное письмо с конкретными локальными событиями отражается и окружающий мир, и общечеловеческий опыт. Каждое письмо умершей матери становится поводом для рассказа героини о себе, с Я-героини в каком-то из преломлений ее судьбы происходит самоидентификация, ведь переживаемые ею состояния базовые – любовь, депрессия или утрата. Интонация Волошиной далека от мелодраматической, она скорее иронично-лирическая. В другой пьесе про переживание утраты – «Человек в закрытой комнате» (2021) Татьяны Загдай – интонация вообще комедийная. Это не монодрама, а скорее пьеса с монодраматическими элементами: большую часть текста составляют монологи Жанны с умершим отцом, то есть – практически с самой собой.
Драматург Мария Огнева, например, использует монодраматическую форму в полудокументальной-полуфантастической пьесе «За белым кроликом» (2018): история жестокого убийства двух студенток, сплетенное с сюжетом «Алисы в стране чудес» – воспоминание подруги погибших девушек, одновременно и социальная драма, и рефлексия трагических событий.
По-феминистски сильная героиня представлена в медитативной монодраме Лидии Головановой «Плотник» (2020): девушка всю пьесу медленно и упорно строит дом на каркасе шалаша своего деда. Почти ничего, кроме описания физических действий, но в конце, когда дом построен, происходит, с одной стороны – эмоциональное очищение, с другой – самоутверждение героини в мире.
Во вторую волну новой драмы никуда не исчезают острые документальные или полудокументальные тексты (среди них все больше становится пьес на тему колониальности). Но в конце 2010-х – начале 2020-х годов кажется, что многие герои пьес только и делают, что занимаются саморефлексией и переживанием травмы, поиском идентичности и определением себя в мире. И заняты этим не только героини – например, главный персонаж пьесы «Камень глупости» белорусского драматурга Константина Стешика заболевает ощущением бессмысленности жизни и пускается в дрейф по городу, чтобы как-то этот смысл обрести. Драматурги высвечивают маленькие трагедии повседневности обычного человека, как бы делая их тоже значимыми, потому что не бывает незначимых людей. В условно ровные нулевые-десятые годы авторы «растерянного поколения» как будто получили возможность погрузиться в экзистенциальные глубины человека: чтобы как-то действовать и влиять на мир, нужно осознать свое место в реальности и саму реальность… Тем более, что ответственность за себя – это принципиально активная позиция персонажа.
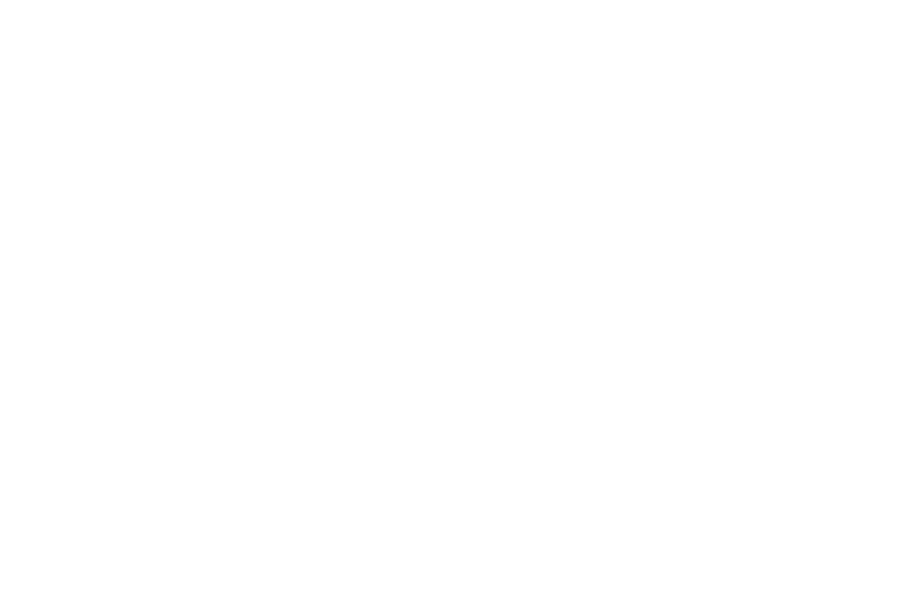
«Страна Вась»
из архива Театра.doc
из архива Театра.doc
Сейчас этот самоаналитический период закончился. Поразительной и показательной кажется рифма двух текстов разных «волн» новой драмы – «Я, пулеметчик» (2003) Юрия Клавдиева и «Неизвестный солдат» (2022) Артема Материнского. Герой монодрамы тольяттинского драматурга Клавдиева – бандит из 90-х, неосознанно отождествивший себя с дедом-пулеметчиком во время Второй Мировой войны. Криминальная война для героя подменяется той войной, драматург таким образом уравнивает то зло и это. В пьесе «Неизвестный солдат» примерно такая же ситуация: герой Материнского – пограничник, который служит в армии, вроде бы никакой войны нет, но градус жестокости и бесчеловечности самого социального института армии высвечивает будущую катастрофу. В этих персонажах есть существенная разница: если герой Клавдиева говорит про себя «Я – железо», то герой Материнского произносит «Я – трус».
***
На сцене герои новой новой драмы нечастые гости, балом все еще правит классика. Однако сценические воплощения героев новейшей драматургии периодически возникают.
Средствами психологического театра редко какую новодрамовскую вещь можно решить: даже если герои похожи на реальных людей и даже если в пьесе много быта, все равно нет, да и возникнет какое-нибудь инобытие. Так, например, в пьесе Светланы Баженовой «Герб города Эн» есть две пары – Торик и Тамара, Тошик и Лиза. Они задыхаются от тесноты коммуналки и города Эн, окруженные грязным выживанием, каждый из них находит опору в своем призрачном мирке. В спектакле Петра Шерешевского в КТМ актеры играют на переключении регистров – из бытового существования переходят в мечтательно-сказочный сон. С исполнением тут проблем не возникает: герои Баженовой – живые люди, и играют их актеры подробно, тонко, с психологической глубиной. Но этот психологизм какой-то странно-современный, в том смысле, что причины, следствия, мотивации как будто ничего не объясняют. Герои и хотят вырваться куда-то и что-то изменить в своей несчастливой жизни, и как будто не хотят, застывшие в неопределенности и околобуддистской пустоте.
Герой размытый и безликий или, наоборот, предельно индивидуализированный, в любом случае в новейшей драматургии он будет не целостным, исследователи называют его «осколочным персонажем». Монодрама предполагает демонстрацию субъективного мира героя и погружение зрителя внутрь этого мира. Именно эта ситуация подталкивает театр к поиску новых средств выразительности. Режиссерам необходимо создать поле для погружения во внутренний мир героя, нередко они прибегают к помощи смежных дисциплин и делают, например, аудиовизуальные перформансы, где звуковому и визуальному наполнению отдана роль не меньшая, чем перформеру или актеру.
Например, в спектакле «Монотония» (2022) по пьесе Лидии Головановой, поставленном Степаном Пектеевым в БДТ, вообще нет актеров, а есть Исполнительница текста (Елена Попова), музыкант (Владимир Розанов) и саунд-дизайнер (Алексей Косилов). Драматург конструирует героя через окружающую его шумовую среду, звук «подсказывает» образ жизни персонажа – среднестатистического Ильи. Пьеса состоит только из бытовых звуков, а режиссер строит партитуру трехчастно: чтение текста пьесы, живая музыка и запись шумов. Режиссерское решение Пектеева углубляет смыслы пьесы: каждый бытовой звук (от «звука намыливания» до «звук стонов из динамиков ноутбука») переводится на язык музыки – становится мелодией рояля или струнной вариацией. Этот вроде бы простой концепт решает всё: пока герой Илья занимается рутиной и создает аутентичную партитуру, которую сам не воспринимает, зритель слушает прекрасную музыку. По ходу действия шумовых подзвучек становится все меньше, бытовое растворяется в нереальном потоке музыкального звучания, в последней сцене Илья замирает посреди комнаты в тишине – и слушает Санкт-Петербург. Мысль простая: увязший в рутине человек вырывается из нее, перестает воспринимать реальность автоматически, буквально – вслушавшись. Перформанс, балансируя между бытом и бытием, процессуально погружает в субъективное пространство чувствования и медитативной рефлексии героя, внедряет зрителя-слушателя в сознание и ощущения персонажа.
Интересно конструируется персонаж в спектакле «Простите, это все я» (Центр Вознесенского, 2022) режиссера Андрея Жиганова по пьесе «И., 9 лет» Артема Материнского. «И., 9 лет» – «графический вербатим», в нем происходит исследование внутреннего мира, героем становится сознательное и бессознательное ребенка, которое конструируется драматургом с помощью визуального материала – реальных детских рисунков. Режиссер создает художественную ассоциацию на материале пьесы, строя «сознание» ребенка из трех частей: моноперформанса, аудиовизуальной инсталляции и музыкального концерта.
С визуальными и аудиальными средствами все как будто понятно – концерт и инсталляция – осколки персонажа, невербальные средства передачи бессознательного. А вот перформанс Елизаветы Кашинцевой – любопытный способ решения супер субъективного персонажа. Субъективность как бы выражается субъективностью: в размытую, по сути ненаписанную в экспериментальной пьесе роль включается личность перформерки. Ее полуимпровизационный монолог – реконструкция личных переживаний детства. Актриса блуждает по пространству памяти, цепляясь за триггерные точки, говоря о телесности, боли, любви и привязанности. Но важно, что личные истории становятся не психотерапевтическим потоком сознания перформерки, а отражением типических черт детской природы – ранимости и острой чувствительности.
Создатели проекта, отталкиваясь от неконвенциональной пьесы из рисунков, работают в поле междисциплинарности. Обращение к другим искусствам подчинено задаче представить не объективный образ реальности пьесы, а субъективное ощущение мира персонажа. Стремление к междисциплинарности в театре и в пьесе выглядит как тенденция. Современной пьесе не хватает слова, современному театру не хватает актера, и нужно прибавление чего-то еще из других искусств, но другие искусства (в смысле театра – не актерское искусство) здесь существуют не в подчиненной позиции, а в равноправной и действующей.
Потребность в актере возникает даже в междисциплинарных проектах. Например, пьеса Викентия Брызь «Страна Вась» – поэма, написанная верлибром. Иван Корсуновский в Театре.doc ставит «Страну Вась» как «техно-оперу» или «читку-рейв». Актриса Кристина Повстяная и диджей Валя Кавасаки сосуществуют на равных: монолог-рефлексия девушки, переехавшей в Москву из Приморья за счет взрывного диджей-сета обретает иронически-лирическую интонацию. Где найти деньги на похороны деда и зачем жить в стране, где никому ничего не нужно, – экзистенциальные вопросы, выкрикнутые под мощные биты, звучат и абсурдно, и больно. В спектакле есть партисипативные вставки, когда всех зрителей просят что-то произнести или сделать, но включение в действие происходит скорее из-за формы рейва, рефлексия Васи ощущается как что-то близкое и личное. Музыка играет двойственную роль: она и дает ощущение московских ритмов, с которыми сталкивается провинциальный герой, и вызывает брехтовский эффект отстранения – меланхолическая рефлексия теряет страдальческую интонацию, когда она проговаривается-прочитывается актрисой под бит.
Вася – Кристина Повстяная, эмоционально то подключаясь, то выключаясь, повествует нам о злоключениях провинциала в столице, зрители тоже подвержены этому переключателю. Из коллажа историй, мыслей и музыкальных треков возникает индивидуальный и обобщенный образ: конкретность персонажа превращается в архетип. Вася, в голову которого впускают зрителя, становится зеркальным отражением зрителя – тоже потерянного и ищущего место в мире. Примечательно, что в этом спектакле центром становится актриса (нечасто такое можно встретить в постановках новой драмы), именно через сложную разноплановую актерскую игру выражены основные смыслы.
Период глубоких экзистенциальных рефлексий героев и авторов монодрам сейчас как будто уходит, потому что изменившаяся социальная реальность упростилась до борьбы добра и зла. Время возвращает героев в окружающий внешний мир, чтобы через взаимодействие с другими определить себя. Вот пример пьесы, которая в настоящее время ставится по всей стране: поэтическая монодрама «Друг мой» Константина Стешика – простая и добрая история о дружбе. Два друга выходят стрельнуть ночью сигареты и на пути по дворам сталкиваются с ситуациями, которые провоцируют на этический выбор – помочь или уйти, проявить сочувствие или эгоизм. Сталкивая два мировоззрения (весьма современных), Стешик создает лирическое полотно, соединяющее повседневное и исключительное. Важно и то, что монолог в пьесе ведется от лица героя, которому на других, в отличие от друга, все равно – и эта внутренняя борьба почти невидимо отражена в тексте. Театру Стешика (и конкретно монодраме «Друг мой») определенно нужен актер, только через него можно воплотить тонкие, драматические процессы сознания героя. Так, в моноспектакле режиссера Семена Серзина (Невидимый театр) исполнителем становится большой артист Олег Рязанцев.
Возможно, дальше всё будет по-другому.
На сцене герои новой новой драмы нечастые гости, балом все еще правит классика. Однако сценические воплощения героев новейшей драматургии периодически возникают.
Средствами психологического театра редко какую новодрамовскую вещь можно решить: даже если герои похожи на реальных людей и даже если в пьесе много быта, все равно нет, да и возникнет какое-нибудь инобытие. Так, например, в пьесе Светланы Баженовой «Герб города Эн» есть две пары – Торик и Тамара, Тошик и Лиза. Они задыхаются от тесноты коммуналки и города Эн, окруженные грязным выживанием, каждый из них находит опору в своем призрачном мирке. В спектакле Петра Шерешевского в КТМ актеры играют на переключении регистров – из бытового существования переходят в мечтательно-сказочный сон. С исполнением тут проблем не возникает: герои Баженовой – живые люди, и играют их актеры подробно, тонко, с психологической глубиной. Но этот психологизм какой-то странно-современный, в том смысле, что причины, следствия, мотивации как будто ничего не объясняют. Герои и хотят вырваться куда-то и что-то изменить в своей несчастливой жизни, и как будто не хотят, застывшие в неопределенности и околобуддистской пустоте.
Герой размытый и безликий или, наоборот, предельно индивидуализированный, в любом случае в новейшей драматургии он будет не целостным, исследователи называют его «осколочным персонажем». Монодрама предполагает демонстрацию субъективного мира героя и погружение зрителя внутрь этого мира. Именно эта ситуация подталкивает театр к поиску новых средств выразительности. Режиссерам необходимо создать поле для погружения во внутренний мир героя, нередко они прибегают к помощи смежных дисциплин и делают, например, аудиовизуальные перформансы, где звуковому и визуальному наполнению отдана роль не меньшая, чем перформеру или актеру.
Например, в спектакле «Монотония» (2022) по пьесе Лидии Головановой, поставленном Степаном Пектеевым в БДТ, вообще нет актеров, а есть Исполнительница текста (Елена Попова), музыкант (Владимир Розанов) и саунд-дизайнер (Алексей Косилов). Драматург конструирует героя через окружающую его шумовую среду, звук «подсказывает» образ жизни персонажа – среднестатистического Ильи. Пьеса состоит только из бытовых звуков, а режиссер строит партитуру трехчастно: чтение текста пьесы, живая музыка и запись шумов. Режиссерское решение Пектеева углубляет смыслы пьесы: каждый бытовой звук (от «звука намыливания» до «звук стонов из динамиков ноутбука») переводится на язык музыки – становится мелодией рояля или струнной вариацией. Этот вроде бы простой концепт решает всё: пока герой Илья занимается рутиной и создает аутентичную партитуру, которую сам не воспринимает, зритель слушает прекрасную музыку. По ходу действия шумовых подзвучек становится все меньше, бытовое растворяется в нереальном потоке музыкального звучания, в последней сцене Илья замирает посреди комнаты в тишине – и слушает Санкт-Петербург. Мысль простая: увязший в рутине человек вырывается из нее, перестает воспринимать реальность автоматически, буквально – вслушавшись. Перформанс, балансируя между бытом и бытием, процессуально погружает в субъективное пространство чувствования и медитативной рефлексии героя, внедряет зрителя-слушателя в сознание и ощущения персонажа.
Интересно конструируется персонаж в спектакле «Простите, это все я» (Центр Вознесенского, 2022) режиссера Андрея Жиганова по пьесе «И., 9 лет» Артема Материнского. «И., 9 лет» – «графический вербатим», в нем происходит исследование внутреннего мира, героем становится сознательное и бессознательное ребенка, которое конструируется драматургом с помощью визуального материала – реальных детских рисунков. Режиссер создает художественную ассоциацию на материале пьесы, строя «сознание» ребенка из трех частей: моноперформанса, аудиовизуальной инсталляции и музыкального концерта.
С визуальными и аудиальными средствами все как будто понятно – концерт и инсталляция – осколки персонажа, невербальные средства передачи бессознательного. А вот перформанс Елизаветы Кашинцевой – любопытный способ решения супер субъективного персонажа. Субъективность как бы выражается субъективностью: в размытую, по сути ненаписанную в экспериментальной пьесе роль включается личность перформерки. Ее полуимпровизационный монолог – реконструкция личных переживаний детства. Актриса блуждает по пространству памяти, цепляясь за триггерные точки, говоря о телесности, боли, любви и привязанности. Но важно, что личные истории становятся не психотерапевтическим потоком сознания перформерки, а отражением типических черт детской природы – ранимости и острой чувствительности.
Создатели проекта, отталкиваясь от неконвенциональной пьесы из рисунков, работают в поле междисциплинарности. Обращение к другим искусствам подчинено задаче представить не объективный образ реальности пьесы, а субъективное ощущение мира персонажа. Стремление к междисциплинарности в театре и в пьесе выглядит как тенденция. Современной пьесе не хватает слова, современному театру не хватает актера, и нужно прибавление чего-то еще из других искусств, но другие искусства (в смысле театра – не актерское искусство) здесь существуют не в подчиненной позиции, а в равноправной и действующей.
Потребность в актере возникает даже в междисциплинарных проектах. Например, пьеса Викентия Брызь «Страна Вась» – поэма, написанная верлибром. Иван Корсуновский в Театре.doc ставит «Страну Вась» как «техно-оперу» или «читку-рейв». Актриса Кристина Повстяная и диджей Валя Кавасаки сосуществуют на равных: монолог-рефлексия девушки, переехавшей в Москву из Приморья за счет взрывного диджей-сета обретает иронически-лирическую интонацию. Где найти деньги на похороны деда и зачем жить в стране, где никому ничего не нужно, – экзистенциальные вопросы, выкрикнутые под мощные биты, звучат и абсурдно, и больно. В спектакле есть партисипативные вставки, когда всех зрителей просят что-то произнести или сделать, но включение в действие происходит скорее из-за формы рейва, рефлексия Васи ощущается как что-то близкое и личное. Музыка играет двойственную роль: она и дает ощущение московских ритмов, с которыми сталкивается провинциальный герой, и вызывает брехтовский эффект отстранения – меланхолическая рефлексия теряет страдальческую интонацию, когда она проговаривается-прочитывается актрисой под бит.
Вася – Кристина Повстяная, эмоционально то подключаясь, то выключаясь, повествует нам о злоключениях провинциала в столице, зрители тоже подвержены этому переключателю. Из коллажа историй, мыслей и музыкальных треков возникает индивидуальный и обобщенный образ: конкретность персонажа превращается в архетип. Вася, в голову которого впускают зрителя, становится зеркальным отражением зрителя – тоже потерянного и ищущего место в мире. Примечательно, что в этом спектакле центром становится актриса (нечасто такое можно встретить в постановках новой драмы), именно через сложную разноплановую актерскую игру выражены основные смыслы.
Период глубоких экзистенциальных рефлексий героев и авторов монодрам сейчас как будто уходит, потому что изменившаяся социальная реальность упростилась до борьбы добра и зла. Время возвращает героев в окружающий внешний мир, чтобы через взаимодействие с другими определить себя. Вот пример пьесы, которая в настоящее время ставится по всей стране: поэтическая монодрама «Друг мой» Константина Стешика – простая и добрая история о дружбе. Два друга выходят стрельнуть ночью сигареты и на пути по дворам сталкиваются с ситуациями, которые провоцируют на этический выбор – помочь или уйти, проявить сочувствие или эгоизм. Сталкивая два мировоззрения (весьма современных), Стешик создает лирическое полотно, соединяющее повседневное и исключительное. Важно и то, что монолог в пьесе ведется от лица героя, которому на других, в отличие от друга, все равно – и эта внутренняя борьба почти невидимо отражена в тексте. Театру Стешика (и конкретно монодраме «Друг мой») определенно нужен актер, только через него можно воплотить тонкие, драматические процессы сознания героя. Так, в моноспектакле режиссера Семена Серзина (Невидимый театр) исполнителем становится большой артист Олег Рязанцев.
Возможно, дальше всё будет по-другому.
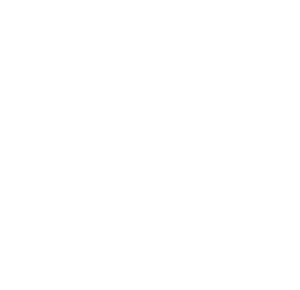
Алёна Ходыкова
Всё из раздела «Практика»

