Интервью
Олег Ерёмин.
Театр, катарсис и любовь
Театр, катарсис и любовь
Интервью: Ольга Школина
Рубрика #интервью – это беседы с режиссерами, представляющими актуальные тенденции современного театра. Всем им предложена одна схема вопросов – о природе театра и своей профессии, задачах критики, направлении развития театрального искусства. Первый герой рубрики – Олег Ерёмин, актер и режиссер, выпускник В.М. Фильштинского, художественный руководитель Нового Императорского театра
Олег Ерёмин – российский театральный актёр и режиссёр. Окончил Санкт-петербургскую академию театрального искусства (ныне РГИСИ) по специальности актёрское искусство в 2006 году, затем в 2008 году получил диплом режиссёра и дебютировал с выпускным спектаклем «Муха» (по произведениям Корнея Чуковского и Иосифа Бродского). По приглашению Валерия Фокина стал штатным режиссёром и актёром Александринского театра. Сотрудничал с Андреем Могучим, Юрием Бутусовым, Кристианом Люпой, Теодоросом Терзопулосом, Камой Гинкасом. Спектакли Ерёмина совмещают в себе внимание к тексту, жесткий режиссерский рисунок и предельную актерскую выразительность. В репертуаре созданного им Нового императорского театра античная трагедия сочетается с современной английской драматургией, а дерзкий сайт-специфик не исключает катарсис. Среди спектаклей: «Вон» (по произведениям Даниила Хармса, 2015), «Троянки» (Еврипид, 2017), «Любовь и деньги» (Дэннис Келли, 2017).
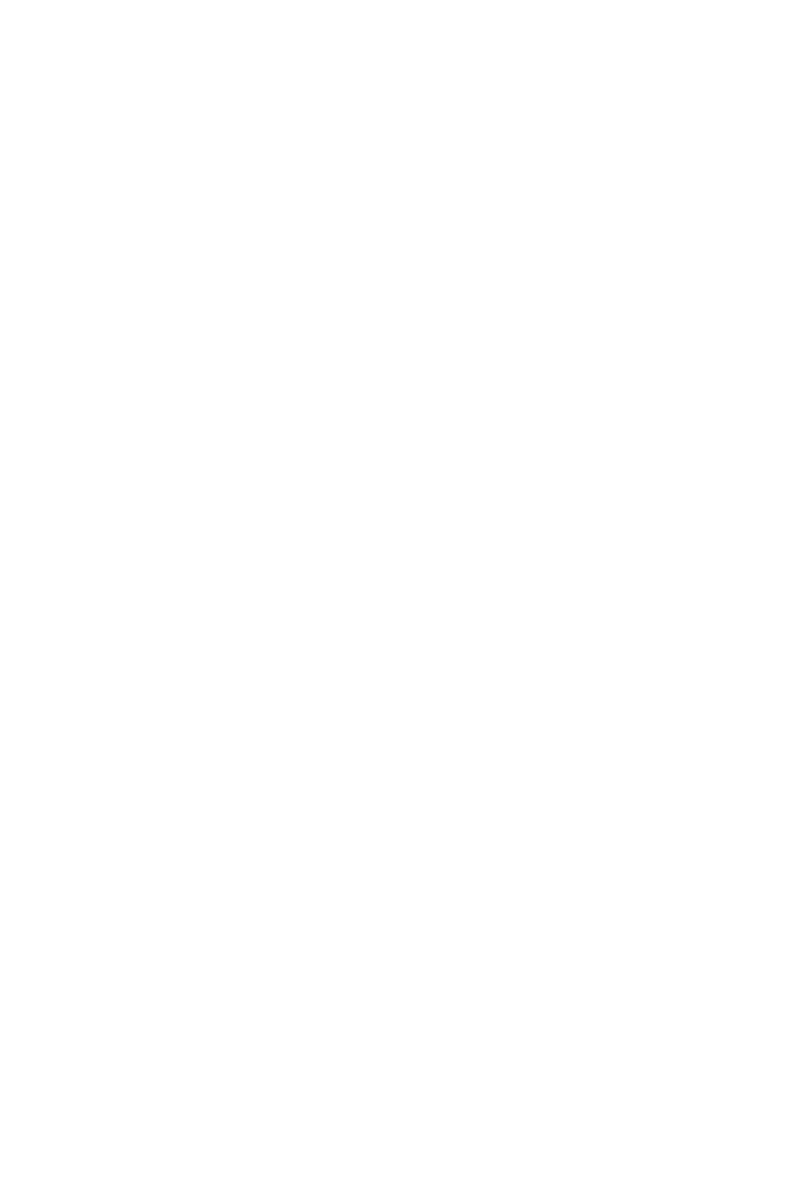
Ольга Школина: Первый вопрос будет связан с ролью театра в современной жизни. Какую роль, по Вашему мнению, играет театр и есть ли сейчас ему альтернатива?
Олег Ерёмин: Альтернатива есть всегда. Какую роль он играет… По моему ощущению, такую же, как и всегда. В основной массе – «развлекательно-тупоумную». Не могу сказать, что он несёт какую-то образовательную нагрузку, в последнее время это сложно встретить. По поводу форм – не уверен, что он предлагает что-то новое по сравнению с другими видами искусств. То есть всё это отпадает. Соответственно, какие варианты остаются: либо сходить провести вечер, либо, в очень редких случаях, получить какое-то эмоциональное потрясение. Не знаю, это синтез различных искусств.
Мы все знаем, что у актеров есть амплуа. А как вам кажется, есть ли амплуа у режиссёров? Какое бы амплуа вы выбрали для себя?
Впервые о таком слышу, Вы загнали меня в тупик. Смотря что вы имеете в виду. Почерк со временем вырабатывается, как и стиль. Не знаю, есть ли у Роберта Уилсона или Кристиана Люпы какое-то амплуа…
То есть они сами по себе самодостаточны, их не вписать в какие-то определения?
Понимаете, это если говорить про серьёзных товарищей вроде тех, кого я сейчас назвал. У них нет никакого амплуа, есть своё видение. Своё видение искусства. Это трудно определить как амплуа. Амплуа может быть в поведении, допустим, но к профессии и искусству это не имеет никакого отношения. Поэтому я не знаю, есть ли у меня амплуа, трудно сказать. Со стороны, наверное, виднее.
Можно ли однозначно сказать кто или что придёт на смену режиссёру в современном театре и нужен ли вообще сейчас режиссёр?
Как показывает практика, он всё-таки нужен. Проблема в чём: в основной своей массе, практически 90%, артисты – очень ленивые люди. Режиссёры тоже ленивые, но на них лежит ответственность, им приходится выполнять какую-то работу. Опять же я говорю про действительно заслуживающие внимания случаи. Во-первых, артистов трудно организовать, а во-вторых – всё равно нужен взгляд со стороны. Поэтому все эти песни про то, что «режиссёрский театр умирает» и прочее, это то же самое как сказать, что век композиторов умирает или век дирижёров. Нужен человек, который видит это со стороны и как-то корректирует.
Думаю, те индивидуальные случаи, когда проекты делаются без режиссёров, как коллаборации, они только исключение, которые дальше не двинутся. Мне кажется, наступило такое время, когда наиболее значимые серьезные работы создаются в соавторстве режиссёра и артистов. Но только при условии, что это серьёзные творческие единицы – и режиссёр, и артист. Не просто «мы собрались в подвале после института и у нас такой классный режиссёр, мы сами классные ребята, давайте вместе придумывать».
Нет, я имею в виду какой-то серьёзный диалог между серьёзным художником-режиссёром и художником-артистом. Самое ценное сейчас в этом диалоге. В устаревшем понимании, когда режиссер это тот, кто говорит «идите направо, идите налево» – он, конечно, уже ничего из себя не представляет. В большинстве случаев то, что происходит у нас в стране и в мировом театре – это рудимент, уже никому не нужный.
Думаю, те индивидуальные случаи, когда проекты делаются без режиссёров, как коллаборации, они только исключение, которые дальше не двинутся. Мне кажется, наступило такое время, когда наиболее значимые серьезные работы создаются в соавторстве режиссёра и артистов. Но только при условии, что это серьёзные творческие единицы – и режиссёр, и артист. Не просто «мы собрались в подвале после института и у нас такой классный режиссёр, мы сами классные ребята, давайте вместе придумывать».
Нет, я имею в виду какой-то серьёзный диалог между серьёзным художником-режиссёром и художником-артистом. Самое ценное сейчас в этом диалоге. В устаревшем понимании, когда режиссер это тот, кто говорит «идите направо, идите налево» – он, конечно, уже ничего из себя не представляет. В большинстве случаев то, что происходит у нас в стране и в мировом театре – это рудимент, уже никому не нужный.
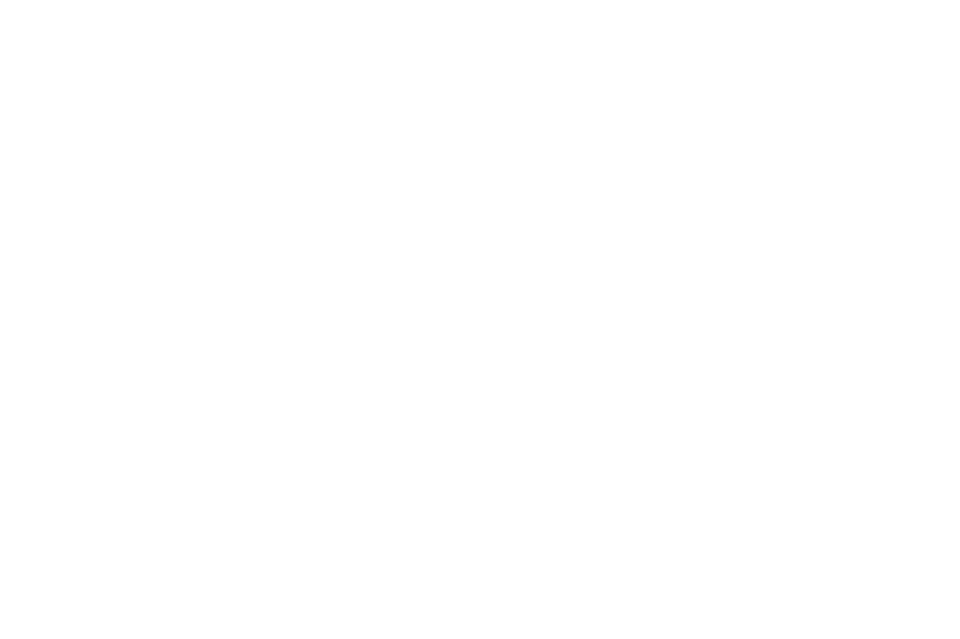
Мы коснулись актёрского искусства. В одном из интервью Вы говорили, что актёры должны быть «наглые и дерзкие». А что должен уметь современный актёр, помимо того, чтобы не мешать режиссёру?
«Наглые и дерзкие» – это, наверное, было в связи с чем-то сказано, может вырвано из контекста. Хотя я по-прежнему так считаю. Просто есть артисты, для которых это необязательно. Будет звучать как клише, но актер сегодня должен уметь всё, потому что все жанры искусства перемешались. Настолько, что артист должен быть в высочайшей степени мобилен и готов работать в очень разных художественных «языках». С одной стороны, это совершенно прекрасная история, когда куча людей живёт у Тадаси Судзуки на горе и они занимаются только работой над спектаклем, или там у Ежи Гротовского – доводят себя до какого-то космического уровня совершенства. Модель лаборатории мне кажется идеальной всегда.
С другой стороны, рядовой артист должен обладать полным набором навыков, чтобы уметь работать и в хореографическом спектакле, и с древнегреческими текстами, и в таких острых жанрах как гротеск, фарс, абсурд. И совершенно серьёзно в глубочайшем психологическом театре. Сегодня всё это очень сильно переплетено, взаимосвязано и артист должен уметь все это делать. Только поймите, я не говорю сейчас про наш несчастный мёртвый репертуарный театр. Это я про модель театра, на мой взгляд, приличную. Поэтому у меня очень серьёзные вопросы к системе образования в нашей стране. Мне кажется, что многие факторы современного театра сегодня вообще не учитываются.
С другой стороны, рядовой артист должен обладать полным набором навыков, чтобы уметь работать и в хореографическом спектакле, и с древнегреческими текстами, и в таких острых жанрах как гротеск, фарс, абсурд. И совершенно серьёзно в глубочайшем психологическом театре. Сегодня всё это очень сильно переплетено, взаимосвязано и артист должен уметь все это делать. Только поймите, я не говорю сейчас про наш несчастный мёртвый репертуарный театр. Это я про модель театра, на мой взгляд, приличную. Поэтому у меня очень серьёзные вопросы к системе образования в нашей стране. Мне кажется, что многие факторы современного театра сегодня вообще не учитываются.
Можно в связи с этим говорить о кризисе актерской профессии?
Безусловно, в нашей стране это так, но я бы вообще не хотел об этом говорить. В целом, есть какие-то индивидуальные случаи – например, в Польше (хотя там ситуация сильно изменилась), в Германии, еще где-то, когда ты видишь какие-то невероятные актерские работы и очень серьезный профессиональный уровень. У нас тоже бывает, но это крупицы, их нужно собирать по всей стране. В одном городе, в другом. Понятно, что в силу многих причин в Москве концентрация больше. Если говорить про средний уровень и всё-таки заглянуть на территорию российской действительности, то ситуация, мне кажется, просто патовая.
Я даже не говорю про отдаленные города, если ткнуть в любой театр Петербурга или Москвы – артисты играют так, что просто волосы дыбом встают. Не в смысле, что плохо, а в смысле, что сегодня уже никто так не работает. ХХ век внёс очень серьёзные коррективы в театральное искусство. Сначала Брехт, потом перформативное искусство середины ХХ века, абсурдизм…
У нас иногда заходишь в театр и с ужасом смотришь на этот «псевдопсихологизм», причём он действительно никакого отношения к психологическому театру не имеет, это какой-то труп. Все держится только на исключительных индивидуальностях, которые работают за счёт своего невероятного таланта и личной харизмы. Не скажу, что они какие-то суперпрофессионалы в актёрском смысле, ты просто оказываешься во власти чужого обаяния. К профессии в высоком смысле слова это не всегда имеет отношение. Поэтому общий уровень, конечно, очень грустный. Это то, что в режиссуре и в актёрской технике было лет 50-60 назад, может и больше. Зайди на любой спектакль – играют так, что святых выноси! Хотя все считают себя исконно русскими психологическими артистами.
Я даже не говорю про отдаленные города, если ткнуть в любой театр Петербурга или Москвы – артисты играют так, что просто волосы дыбом встают. Не в смысле, что плохо, а в смысле, что сегодня уже никто так не работает. ХХ век внёс очень серьёзные коррективы в театральное искусство. Сначала Брехт, потом перформативное искусство середины ХХ века, абсурдизм…
У нас иногда заходишь в театр и с ужасом смотришь на этот «псевдопсихологизм», причём он действительно никакого отношения к психологическому театру не имеет, это какой-то труп. Все держится только на исключительных индивидуальностях, которые работают за счёт своего невероятного таланта и личной харизмы. Не скажу, что они какие-то суперпрофессионалы в актёрском смысле, ты просто оказываешься во власти чужого обаяния. К профессии в высоком смысле слова это не всегда имеет отношение. Поэтому общий уровень, конечно, очень грустный. Это то, что в режиссуре и в актёрской технике было лет 50-60 назад, может и больше. Зайди на любой спектакль – играют так, что святых выноси! Хотя все считают себя исконно русскими психологическими артистами.
Конкретизируете ли Вы зрителя, на которого ставите спектакль? Насколько вообще он Вам важен?
Конечно я не думаю, под кого конкретно делать спектакль, это значит заведомо вырыть себе могилу. Начнёшь путаться, потому что всем угодить невозможно. Особенно сегодня в век абсолютного отсутствия критериев вкуса, образования, не только театрального, образования как такового. Поэтому здесь не угадаешь – делаешь, как делаешь. Но, наверное, я всё равно ориентируюсь внутри себя, скажем так, на глубоко образованного зрителя, театрального в том числе. Часто в моих спектаклях какие-то подтексты или подсмыслы связаны с абсолютно театральными вещами и зритель с улицы, неподготовленный, их не считает. То есть, на определённый социальный слой или возраст я не ориентируюсь, но выстраивается, как правило, линия в сторону подготовленного театрального зрителя, желательно образованного, конечно.
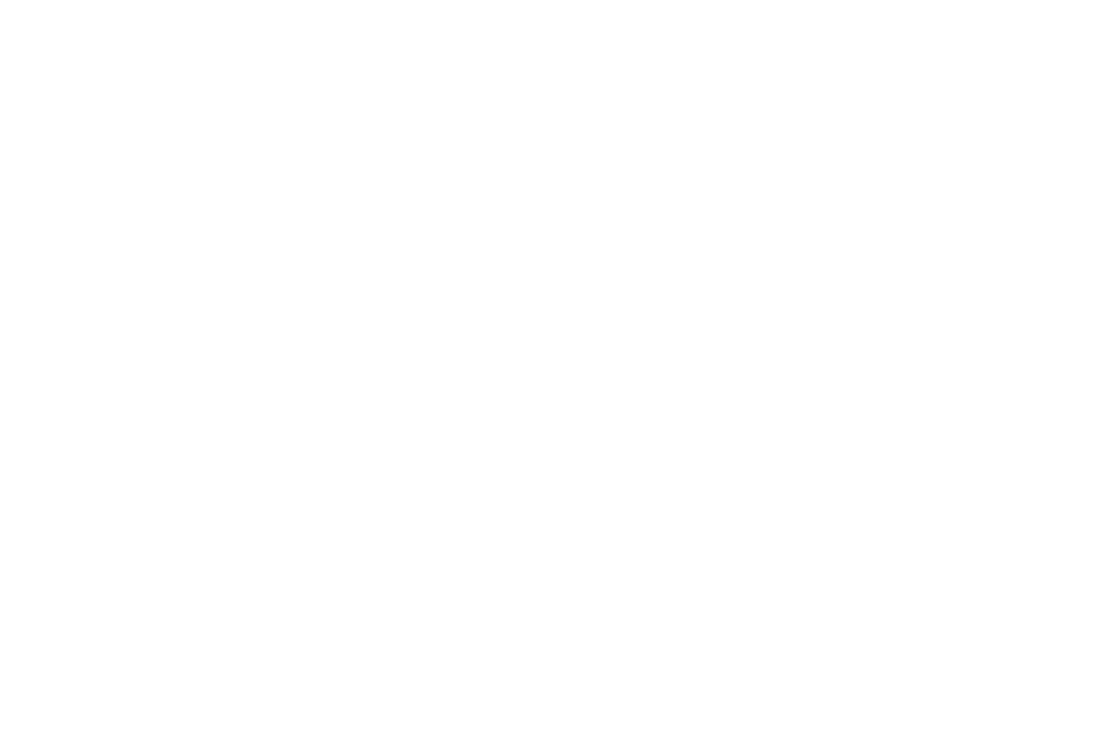
Как думаете, какие задачи стоят перед современной театральной критикой, как Вы её оцениваете?
Может, я ошибаюсь, потому что не так много читаю и, честно говоря, не очень силён в этом материале, но мне кажется, что сегодня понятие «критика» сильно нивелировалось. Потому что театральная критика превратилась в театральную журналистику и всё решает вопрос скорости: кто быстрее напечатается, кто быстрее опубликует в facebook, кто больше за это получит гонорар.
В одном журнале один гонорар, в другом журнале другой. Поэтому, само понятие сильно видоизменилось. Если говорить про задачи, они остаются всё те же. Это должен быть диалог между человеком, который приходит и смотрит, критически оценивает и художником, для того чтобы подсказывать и направлять. Сегодня так часто все переходят на личности, просто за голову хватаешься. Начинаются невероятные высказывания по поводу того или иного сначала продукта, потом человека. В итоге всё переходит в несусветную базарную ругань, и конечно, уже никакого понятия о профессии или об этике не встречаешь.
Мне очень повезло, я столкнулся с таким «идеальным» диалогом вживую: когда Лев Иосифович Гительман пришёл на мой первый премьерный спектакль. Потом он пришёл через пять-шесть спектаклей, потом через год. Только после этого, увидев развитие спектакля и поговорив со мной, он сформулировал какие-то выводы и что-то написал. Мне кажется, что такая модель более правильная, поэтому совершенно утопичная. Сегодня это невозможно, в условиях гонки за скоростью издания статьи.
Но если говорить про утопию, то задача по-прежнему – установить диалог. Конечно, только при условии профессионализма сторон и здравой этики. И самое главное – хоть каких-то критериев. Потому что сегодня критериев нет никаких. Часто люди оценивают спектакль, исходя из абсолютно своих личных суждений: «мне нравится вот так, а вот так мне не нравится». Нравится, не нравится – спи, моя красавица. Это не интересно, что тебе нравится. Сегодня спектакль нравится, а завтра не нравится и понеслась ругань. Но мне кажется, что к профессии это тоже не имеет отношения.
В одном журнале один гонорар, в другом журнале другой. Поэтому, само понятие сильно видоизменилось. Если говорить про задачи, они остаются всё те же. Это должен быть диалог между человеком, который приходит и смотрит, критически оценивает и художником, для того чтобы подсказывать и направлять. Сегодня так часто все переходят на личности, просто за голову хватаешься. Начинаются невероятные высказывания по поводу того или иного сначала продукта, потом человека. В итоге всё переходит в несусветную базарную ругань, и конечно, уже никакого понятия о профессии или об этике не встречаешь.
Мне очень повезло, я столкнулся с таким «идеальным» диалогом вживую: когда Лев Иосифович Гительман пришёл на мой первый премьерный спектакль. Потом он пришёл через пять-шесть спектаклей, потом через год. Только после этого, увидев развитие спектакля и поговорив со мной, он сформулировал какие-то выводы и что-то написал. Мне кажется, что такая модель более правильная, поэтому совершенно утопичная. Сегодня это невозможно, в условиях гонки за скоростью издания статьи.
Но если говорить про утопию, то задача по-прежнему – установить диалог. Конечно, только при условии профессионализма сторон и здравой этики. И самое главное – хоть каких-то критериев. Потому что сегодня критериев нет никаких. Часто люди оценивают спектакль, исходя из абсолютно своих личных суждений: «мне нравится вот так, а вот так мне не нравится». Нравится, не нравится – спи, моя красавица. Это не интересно, что тебе нравится. Сегодня спектакль нравится, а завтра не нравится и понеслась ругань. Но мне кажется, что к профессии это тоже не имеет отношения.
Какую роль играет пьеса в современном театре? Нужна ли она вообще или сегодня ее можно заменить каким-то сценарием, схемой?
Здесь я буду абсолютно субъективен. Если говорить лично про меня, то, я по-прежнему отталкиваюсь от какого-то материала. Не беру на себя ответственность взять и написать этот исходный материал от начала до конца. Мне кажется, это разные профессии, разные дарования. Одному человеку дано написать пьесу, другому – развести это на сцене и объяснить артистам, как сыграть. Поэтому лично я по-прежнему пользуюсь литературным материалом, использую текст как один из элементов конструкции. Что касается театра в целом, не мне вам рассказывать, что всё движется во всех направлениях: есть тысячи вариантов работы с текстом, без текста, направо, налево… во что всё это выльется – непонятно. Не готов сейчас рассуждать.
Какую пьесу вы бы заказали Антону Павловичу Чехову?
Хороший вопрос. Какую бы пьесу я заказал? Надо подумать. Если бы он сегодня жил?
Да.
Прежде всего, я бы заказал пьесу про человека. Потому что наше увлечение формой в театре, в режиссуре, в драматургии зашло уже крайне далеко. В Европе театр уже немного встрепенулся в этом смысле, начался возврат обратно к человеку. Но у нас по-прежнему все увлечены «конструкторами лего». Поэтому я бы попросил его написать про человека, чтобы понять – кто сегодняшний герой. Думаю, у него бы это получилось. Учитывая то, как хирургически ловко он всегда это делал. А дальше, наверное, он бы всё сам написал, не надо было бы ему подсказывать. Чехов гораздо умнее нас всех вместе взятых.
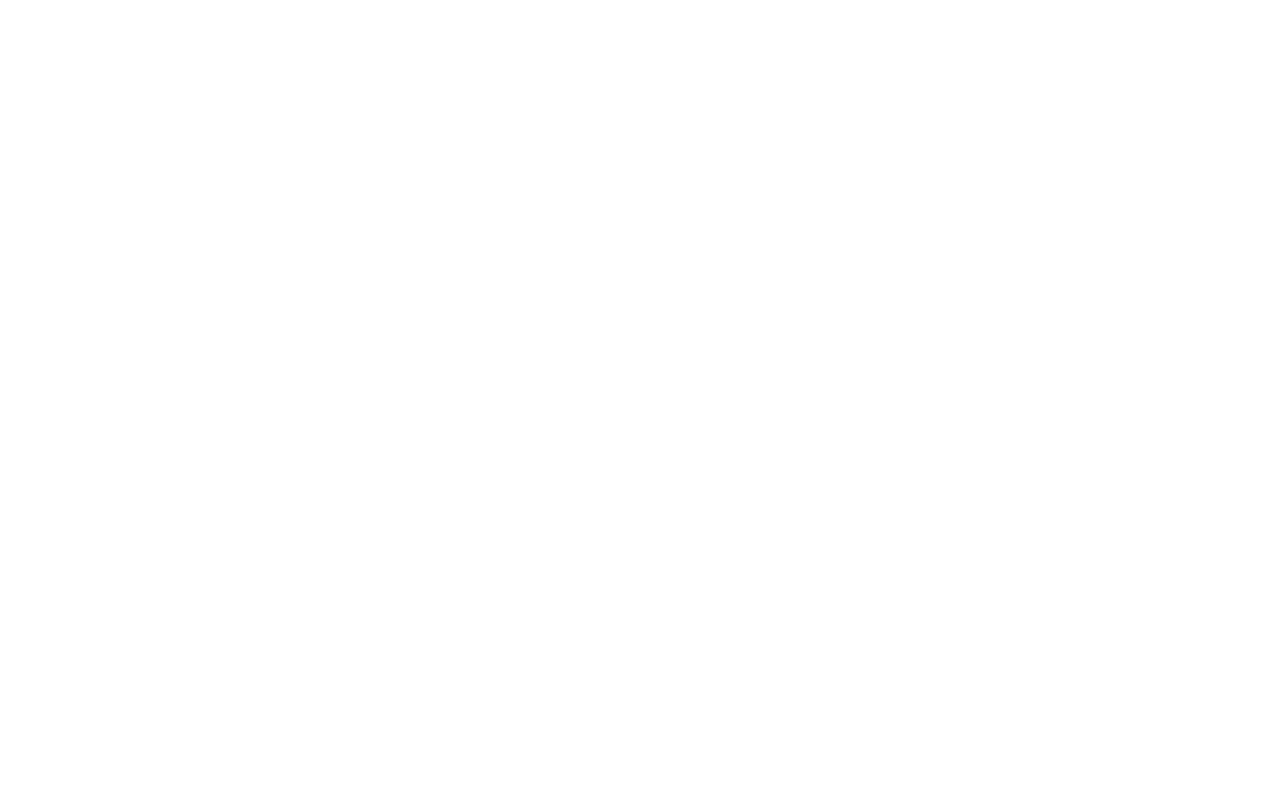
Что нужно для достижения катарсиса и достигается ли он сейчас?
Достигается. У меня были катарсисы. Мне кажется, слагаемые всё те же, они никуда не денутся. Это какой-то безусловный талант всех людей, которые делают спектакль. У режиссёра, который ставит, должно быть совершенно своё видение художественного языка и абсолютное владение этим художественным языком. Мощнейший ансамбль. Как бы там не кричали сторонники этой истории с постдраматическим театром и отказом от артиста, это мне кажется гаданием на кофейной гуще. Без артиста вся эта история невозможна. То есть можно придумывать разные способы: один раз поставить спектакль с роботом, второй раз с лошадьми, третий раз вообще без всех, просто пустить титры… Но это капля в огромном океане. Мне кажется, что катарсис возможен, если я вижу что-то невероятное по эмоциональному переживанию и потрясению, какую-то безусловную правду на сцене. Про которую писал Станиславский и все великие. Когда я оказываюсь в совершенно другом пространстве, в другом времени, благодаря этому чуду театра – тогда это возможно. В этом я просто уверен, потому что сам видел два-три спектакля, где не понимал, как это сделано. Каким способом отрепетировано, как работают артисты… это был разговор на совершенно другом языке.
У Вас есть своя иерархия составляющих спектакля? (актёр, режиссёр, художник, сценография, музыка, зритель…)
На сегодняшний день – всё. Они все равноценны. И я считаю, что сегодня, по крайней мере для меня, это абсолютно коллективная, лучше сказать – командная работа. При условии, что каждый участник является серьёзной и весомой единицей. Если это не какой-то случайный человек, который просто выполняет свою функцию и получает зарплату на карточку. Каждый должен быть творческой единицей, только тогда можно считать, что это командная, совместная работа, только тогда из спора рождается истина. Навязывая свою точку зрения, один человек может так или иначе ошибаться. Художник, композитор, режиссёр, драматург – они равноценны, спектакль можно сделать только совместно. Если речь не идёт про великий классический текст. Если это Чехов, Шекспир или древнегреческая трагедия, тогда, мне кажется, тут всё понятно, кто главный игрок. И задача всех остальных, как говорили в старину, «чуть дотянуться» до этого материала. Ничего плохого я в этом по-прежнему не вижу.
Где или в чём Вы черпаете вдохновение, идеи, когда придумываете спектакль?
Идеи берутся всюду. Начиная с музыки, которая играет по радио, заканчивая ребёнком, который бежит по улице за шариком, или цветом картины, или мизансцены из какого-то фильма или сериала. Как эти идеи соединяются – уже отдельный вопрос. Что касается вдохновения… Думаю, что только любовь, если говорить про меня. Любовь к какому-то человеку, любовь к жизни, к материалу, композитору или тексту. Только влюблённость может стать вдохновением. Либо человек, либо текст, либо музыка, либо тема. Для меня важна влюблённость в это. Никаких других поводов для вдохновения, к сожалению, я не вижу.
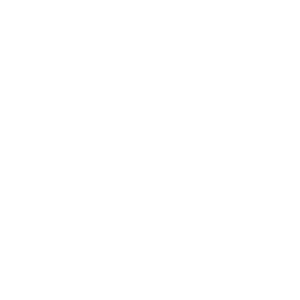
Ольга Школина
Всё из раздела «Практика»

