Рецензии
Простота и слепота
Вадим Максимов
«Эдип – царь»
Режиссер — Роберт Уилсон
Центр исполнительских искусств
«Change performing arts»
Милан, Италия
Режиссер — Роберт Уилсон
Центр исполнительских искусств
«Change performing arts»
Милан, Италия
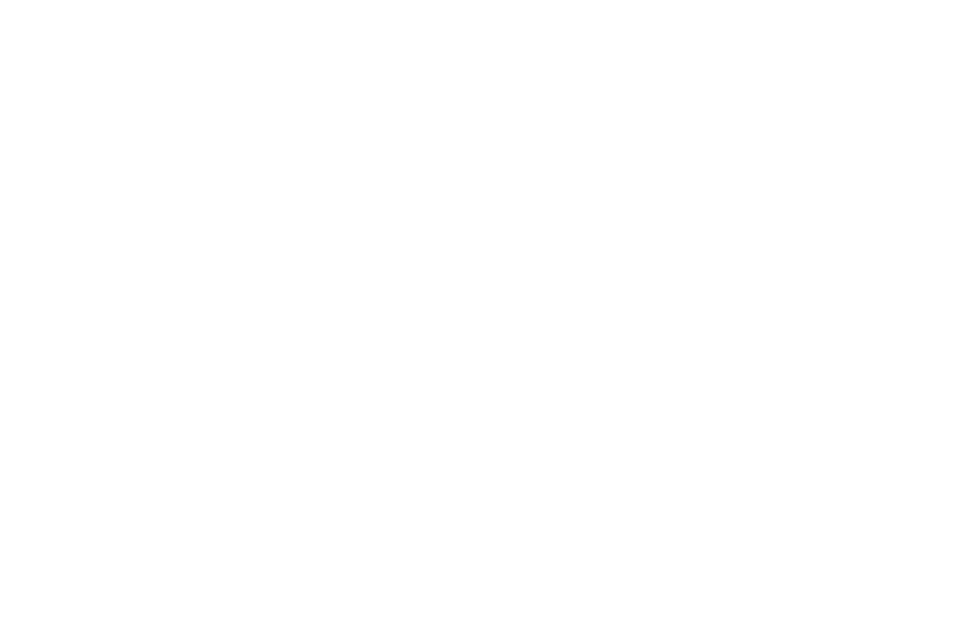
Фото Натальи Кореновской
«Эдип» Роберта Уилсона — пример современного театра, который не только ушел от всякого жизнеподобия и психологизма, но и стал нормой, общепринятой формой театра. Это такой театр, в котором невозможно говорить о нравственности и социальности, а в данном случае — о тяжелой судьбе Эдипа. Это театр, в котором, как и хотел Аристотель, происходит не рассказ о событиях, а само действие.
Это искусство как таковое, которое не сводится к сюжету и к решению проблем человеческой жизни. Этот театр —смысл жизни. Вопрос только в том, как его воспринимать и как писать о таком театре.
Критический анализ такого спектакля не может быть разгадыванием кроссворда про значение образов или описанием театроведческих ассоциаций. Осмысление этого спектакля предполагает традиционную герменевтическую схему. Во-первых, адекватное погружение зрителя в художественный текст, которое приводит в развязке к целостному первичному восприятию. Во-вторых, последующее осмысление и описание своего восприятия.
Сценические приемы, которые использует Уилсон — достаточно просты. Форма спектакля элементарна.
Например, пролог. Прожектор направлен со сцены в глаза зрителей, после чего наступает довольно долгая тьма. Тем самым, сразу заявлен итог: свет слепит, а во тьме происходит прозрение. Потом на белом световом квадрате бесконечно медленное движение Эдипа, уходящего в изгнание или в вечность. Уже здесь заявлена значимость каждого мельчайшего движения (буто).
Так же в развязке, о которой теакритики могут говорить, сравнивая её со «Стульями» Ионеско. Эдип вынимает из петли Иокасту и выкалывает глаза в закадровом тексте, а на сцене он только крушит стулья. В спектакле нет ни намека на иллюстративность. Действие контрастно тексту.
Спектакль прост по форме, но сложен по структуре. Можно сказать, что главным персонажем в сюжете спектакля становится Иокаста. Ее текст разыгрывается несколькими актрисами на разных языках, воплощающими различные архетипические образы. В кульминационной сцене серая фигура, стоящая спиной к зрителю, сбрасывает свой плащ и оказывается французской негритянкой в синем платье, которая произносит текст Иокасты из третьего эписодия:
Жить следует беспечно — кто как может…
Одновременно она поворачивается лицом к залу и ее глаза оказываются покрытыми чем-то вроде пены (или выколоты). Потрясает то, что во время этого французского текста актриса смеется. И в эпилоге, когда она же пойдет по залу, она тоже будет смеяться.
До этого этот же текст третьего эписодия звучит на греческом.
Итак, Иокаста имеет несколько ипостасей. Первый образ, говорящий в основном на греческом языке (а одна фраза на русском) — уже почти в начале заявляет о близящейся гибели Иокасты:
Увы, злосчастный! Только это слово
Скажу тебе — и замолчу навек.
Эта Иокаста словно ожившая статуя. Потом будет вторая —в образе стареющей джазовой певички 30-х годов. Текст частично на немецком.
При бесконечной повторяемости текста фабульное развитие все время идет вспять, как бы пробиваясь к истоку. В спектакле заявлена четкая структура противохода фабулы и сюжета. И это делает спектакль художественным произведением.
Ближе к концу будет наиболее эмоциональный рассказ Эдипа об убийстве им случайного путника. А на сцене три почти одинаковые скульптурные мужские фигуры с повторяющимися движениями.
В спектакле все на контрастах. Развитие фабулы и сюжета, эмоциональный текст и статичная пластика, смена языков. Буквально с первого взгляда видно, что определение театра Уилсона как «визуального» — нелепо. Нигде нет иллюстрации текста. Содержание возникает между текстовым, визуальным и музыкальным рядами. Точно так же все разговоры о постдраматизме не имеют к Уилсону никакого отношения. Драматургия имеет определяющее значение в спектакле, но никак не исчерпывает его.
Спектакль Уилсона драматичен, театрализован, имеет четко выверенную структуру. Тем самым о перформативности здесь тоже не может быть речи. В этой связи чрезвычайно интересно понять место актера в подобном театре. Здесь невозможно ни в каком виде вживание в образ. Но и кто-то помимо сценического образа здесь не присутствует. Таким образом, актер — это материал, наряду с другими инструментами спектакля. Актерские образы фактически статичны, динамика возникает только за счет смены этих образов. В финале и Эдип, и Иокаста приходят к тому, что заявлено в прологе. Но при этом ни один из образов не становится персонажем пьесы. В этом смысле Эдипа нет, Иокасты нет. Это реальные воплощения крэговского принципа сверхмарионетки. Но у Крэга «растворяется» актер, поглощенный художественным персонажем. А у Уилсона — исчезает персонаж, уступая место самостоятельным образам, бесконечным граням «сверхперсонажа».
Другое дело, что форма спектакля остается холодной, не предполагает эмоционального включения зрителя. Но и не побуждает к мыслительному процессу, как в эпическом театре.
Вероятно Уилсон изначально исходил из определенной модели театра, которая осталась неизменной на протяжении десятилетий. Прав был Луи Арагон, когда писал в 1971 году письмо Андре Бретону, уверяя его, что именно о таком театре мечтали сюрреалисты. Это действительно сюрреалистические построения, но не в духе эмоционального Луи Бунюэля, а скорее — Жана Кокто. С той колоссальной разницей, что у сюрреалистов происходила игра со статичными персонажами и сюжетами, а у Уилсона — мы ясно видим размывание персонажей и постоянное превращение их в свои противоположности. Уилсон не позволяет включить возникающие образы в поток ассоциаций, так как происходит его стремительное изменение. А в финале — опять простой ясный язык. Эдип, уходящий в изгнание, и створки задника-экрана смыкаются, как закрывается веко.
Навсегда.
Это искусство как таковое, которое не сводится к сюжету и к решению проблем человеческой жизни. Этот театр —смысл жизни. Вопрос только в том, как его воспринимать и как писать о таком театре.
Критический анализ такого спектакля не может быть разгадыванием кроссворда про значение образов или описанием театроведческих ассоциаций. Осмысление этого спектакля предполагает традиционную герменевтическую схему. Во-первых, адекватное погружение зрителя в художественный текст, которое приводит в развязке к целостному первичному восприятию. Во-вторых, последующее осмысление и описание своего восприятия.
Сценические приемы, которые использует Уилсон — достаточно просты. Форма спектакля элементарна.
Например, пролог. Прожектор направлен со сцены в глаза зрителей, после чего наступает довольно долгая тьма. Тем самым, сразу заявлен итог: свет слепит, а во тьме происходит прозрение. Потом на белом световом квадрате бесконечно медленное движение Эдипа, уходящего в изгнание или в вечность. Уже здесь заявлена значимость каждого мельчайшего движения (буто).
Так же в развязке, о которой теакритики могут говорить, сравнивая её со «Стульями» Ионеско. Эдип вынимает из петли Иокасту и выкалывает глаза в закадровом тексте, а на сцене он только крушит стулья. В спектакле нет ни намека на иллюстративность. Действие контрастно тексту.
Спектакль прост по форме, но сложен по структуре. Можно сказать, что главным персонажем в сюжете спектакля становится Иокаста. Ее текст разыгрывается несколькими актрисами на разных языках, воплощающими различные архетипические образы. В кульминационной сцене серая фигура, стоящая спиной к зрителю, сбрасывает свой плащ и оказывается французской негритянкой в синем платье, которая произносит текст Иокасты из третьего эписодия:
Жить следует беспечно — кто как может…
Одновременно она поворачивается лицом к залу и ее глаза оказываются покрытыми чем-то вроде пены (или выколоты). Потрясает то, что во время этого французского текста актриса смеется. И в эпилоге, когда она же пойдет по залу, она тоже будет смеяться.
До этого этот же текст третьего эписодия звучит на греческом.
Итак, Иокаста имеет несколько ипостасей. Первый образ, говорящий в основном на греческом языке (а одна фраза на русском) — уже почти в начале заявляет о близящейся гибели Иокасты:
Увы, злосчастный! Только это слово
Скажу тебе — и замолчу навек.
Эта Иокаста словно ожившая статуя. Потом будет вторая —в образе стареющей джазовой певички 30-х годов. Текст частично на немецком.
При бесконечной повторяемости текста фабульное развитие все время идет вспять, как бы пробиваясь к истоку. В спектакле заявлена четкая структура противохода фабулы и сюжета. И это делает спектакль художественным произведением.
Ближе к концу будет наиболее эмоциональный рассказ Эдипа об убийстве им случайного путника. А на сцене три почти одинаковые скульптурные мужские фигуры с повторяющимися движениями.
В спектакле все на контрастах. Развитие фабулы и сюжета, эмоциональный текст и статичная пластика, смена языков. Буквально с первого взгляда видно, что определение театра Уилсона как «визуального» — нелепо. Нигде нет иллюстрации текста. Содержание возникает между текстовым, визуальным и музыкальным рядами. Точно так же все разговоры о постдраматизме не имеют к Уилсону никакого отношения. Драматургия имеет определяющее значение в спектакле, но никак не исчерпывает его.
Спектакль Уилсона драматичен, театрализован, имеет четко выверенную структуру. Тем самым о перформативности здесь тоже не может быть речи. В этой связи чрезвычайно интересно понять место актера в подобном театре. Здесь невозможно ни в каком виде вживание в образ. Но и кто-то помимо сценического образа здесь не присутствует. Таким образом, актер — это материал, наряду с другими инструментами спектакля. Актерские образы фактически статичны, динамика возникает только за счет смены этих образов. В финале и Эдип, и Иокаста приходят к тому, что заявлено в прологе. Но при этом ни один из образов не становится персонажем пьесы. В этом смысле Эдипа нет, Иокасты нет. Это реальные воплощения крэговского принципа сверхмарионетки. Но у Крэга «растворяется» актер, поглощенный художественным персонажем. А у Уилсона — исчезает персонаж, уступая место самостоятельным образам, бесконечным граням «сверхперсонажа».
Другое дело, что форма спектакля остается холодной, не предполагает эмоционального включения зрителя. Но и не побуждает к мыслительному процессу, как в эпическом театре.
Вероятно Уилсон изначально исходил из определенной модели театра, которая осталась неизменной на протяжении десятилетий. Прав был Луи Арагон, когда писал в 1971 году письмо Андре Бретону, уверяя его, что именно о таком театре мечтали сюрреалисты. Это действительно сюрреалистические построения, но не в духе эмоционального Луи Бунюэля, а скорее — Жана Кокто. С той колоссальной разницей, что у сюрреалистов происходила игра со статичными персонажами и сюжетами, а у Уилсона — мы ясно видим размывание персонажей и постоянное превращение их в свои противоположности. Уилсон не позволяет включить возникающие образы в поток ассоциаций, так как происходит его стремительное изменение. А в финале — опять простой ясный язык. Эдип, уходящий в изгнание, и створки задника-экрана смыкаются, как закрывается веко.
Навсегда.
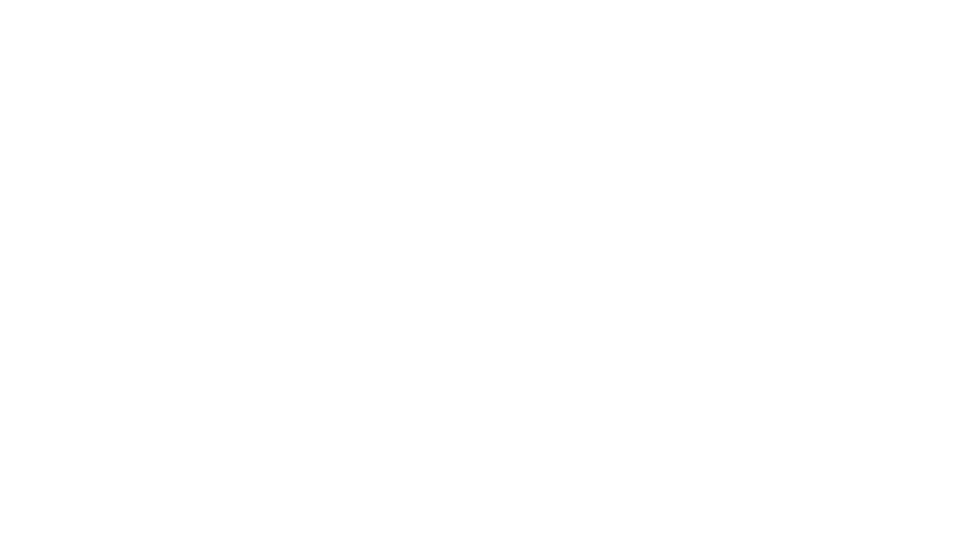
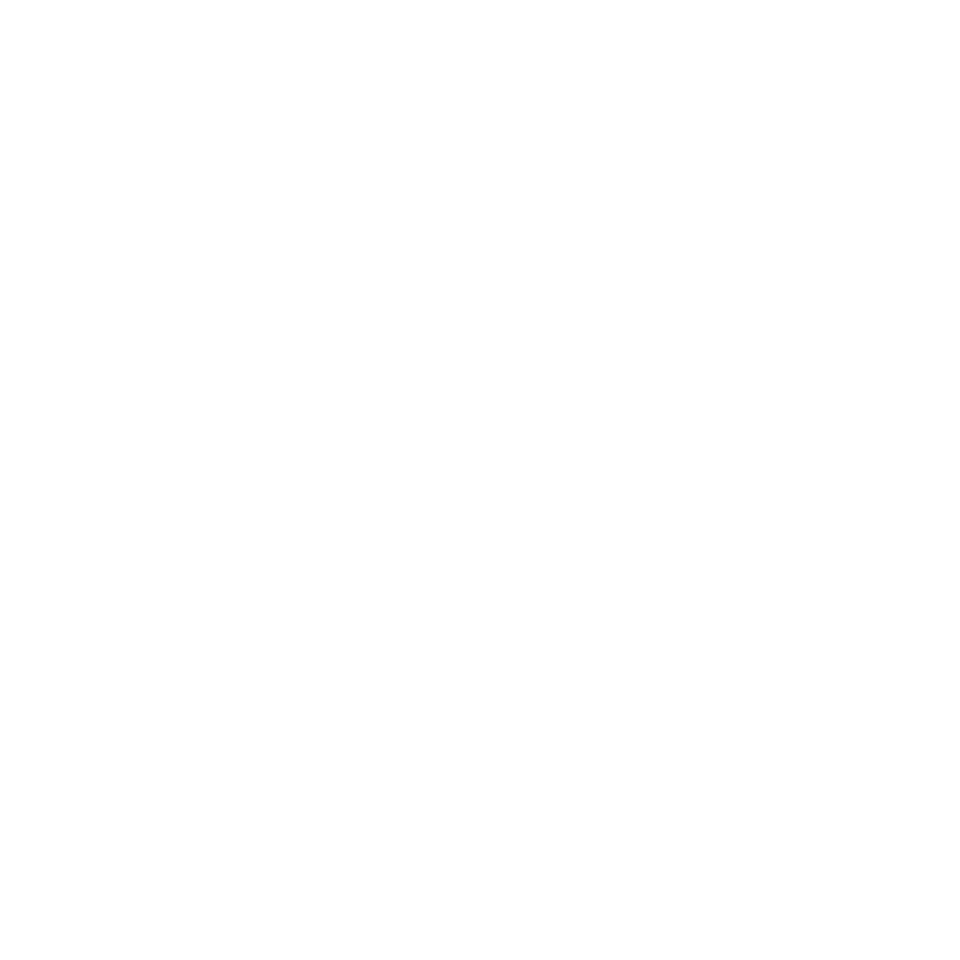
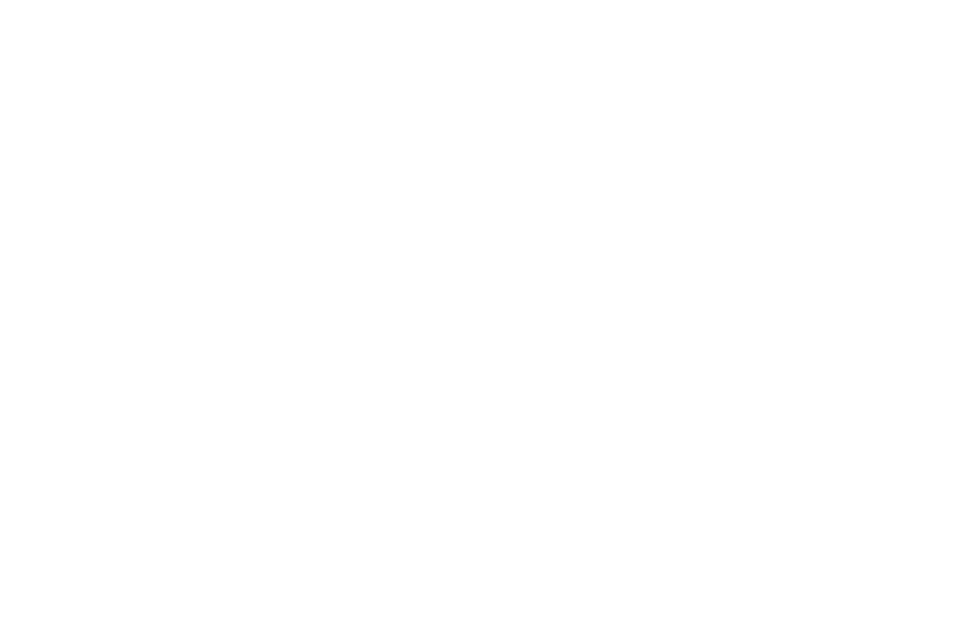
Фото Натальи Кореновской

Вадим Максимов
Всё из раздела «Практика»

