Рецензии
Remote X/ Kyiv.
К вопросу классификации спектакля-променада
К вопросу классификации спектакля-променада
Елена Мигашко
... когда сюжет/ событийный ряд/ смысл становятся результатом труда и выбора, возникают трудности с прежде понятным и регламентированным разграничением «быта/ не театра» и «искусства/ театра». Но дело не только в том, что сегодня их часто попросту сшивают между собой – так, как будто каждый компонент по отдельности все еще виден. Все куда сложнее.
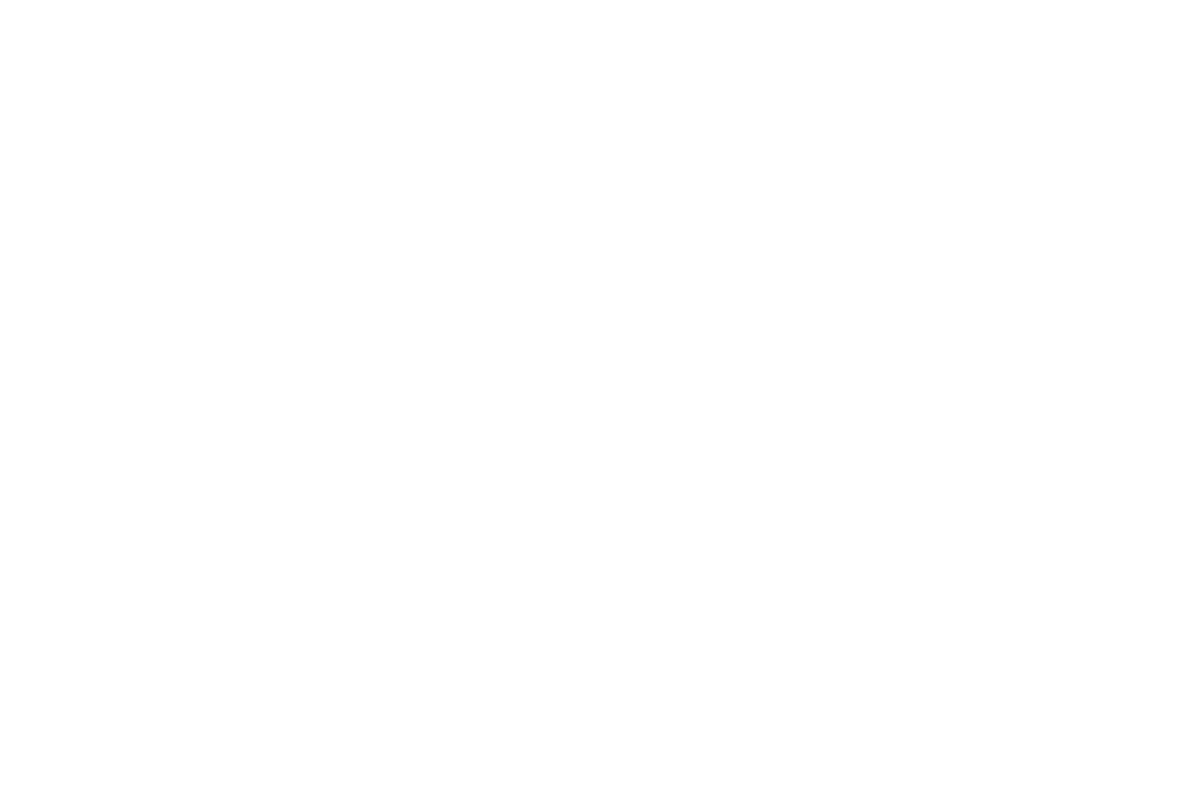
Фото с официального сайта компании Uzahvati
Для большинства новейших театральных практик, которые Ханс-Тис Леман собрал в некое, условно единое, полотно под лейблом «постдраматический», характерно, что свое начало они берут где-то за пределами театра (или знаменуют theatre at its vanishing point, «театр в точке его исчезновения»): в социальном исследовании, научном эксперименте, инсталляции, перформансе, наконец, журналистике. Об этом пограничном характере опытов, возникших при буме информационных носителей, говорили еще до монополизации поля современной теории Леманом – во времена, когда не было «постдраматического», но был «постмодернистский театр», «смерть персонажа» (Элинор Фукс).
Легко вспомнить Хайнера Гёббельса, чьей отправной точкой стала музыка, или Роберта Уилсона, оттолкнувшегося от, скажем так, архитектуры движения/танца. Штефан Кэги, один из трех лидеров группы Rimini Protokoll – журналист. И когда экспериментаторы Rimini получали Европейскую театральную премию «за новые формы», они получали ее именно за то, что удивительным образом сочетали статистику, лабораторный опыт, фактаж с театрализацией и эстетикой. Театр для Кэги – аппарат, с помощью которого можно изучать социум, исследовать общество, влиять на него.
Группе, превратившей балансирование на острие «вымышленного/реального» в движок своей работы, принадлежит не просто ряд спектаклей, но ряд форматов, закрепившихся за ними навсегда: как минимум, к таким можно отнести формулу культового 100% Berlin и Remote X. Без сомнения, проекты на пересечении различных дисциплин часто куда интереснее режиссерских построений внутри сцены-коробки. К тому же, они оправданы состоянием науки и ландшафтом современной мысли. Другой вопрос – достигают ли они тех целей, которые ставят перед собой.
Итак, следует сделать шаг назад.
…
Когда в 1960-х заговорили о театре, где роли «зритель» и «актер» оказались плавающими («Дионис 69»), об искусстве перформанса, предполагалось, что это замещение, принцип активного прочтения-участия станет протестом против капиталистической тенденции превращать искусство в товар (а точнее – презентовать следы жизни искусства в виде объектов); протестом против «общества спектакля» Ги Дебора и «одномерного человека» Герберта Маркузе. В отличие от объекта, который существует как бы отдельно от зрителя (казалось, что без потери смысла спектакль можно механически воспроизвести и в пустой сцене-коробке), личный опыт или, тем более, процесс коммуникации сделать товаром куда сложнее. Стоит ли говорить, что при таких идеях к концу ХХ века привычная актерская игра в режиме «как будто», «если бы» прекратила вызывать хоть сколько-нибудь серьезное доверие и стала ассоциироваться с театральным масскультом – очередным средством для отвода глаз.
Тенденция актуальна и сегодня: именно на развитии коммуникационного аспекта завязаны многие опыты современного театра или точнее – современных театральных практик.
Конечно, когда сюжет/ событийный ряд/ смысл становятся результатом труда и выбора, возникают трудности с прежде понятным и регламентированным разграничением «быта/ не театра» и «искусства/ театра». Но дело не только в том, что сегодня их часто попросту сшивают между собой – так, как будто каждый компонент по отдельности все еще виден. Все куда сложнее. В исследовании театральности быта Игорь Смирнов, например, отмечает: ситуационисты, приравнивая повседневную жизнь к активному участию, генерированию а-типичных ситуаций и акций, боролись с пассивным потреблением и «всеобщим спектаклем», но делали они это с помощью не менее искусственного спектакля (что значит – театр едва ли может быть документальным). Для Кети Чухров, идущей в эссе Repetition as The Performative Syndrome of Dying по стопам Делёза, актуален вывод: вся проблема «старого» театра (театра объекта/зрелища, не театра участия) в том, что актер играл только того, кто уже играл. То есть, неважно, говорим ли мы об открытой структуре с вариативным сценарием, или о замкнутой, но как только перформер/актер начинает осознанно интенсифицировать свое присутствие – он становится исполнителем, ни о каком «чистом присутствии» не может быть и речи. Добавьте к этому попытку поспорить с еще одним перевертышем: в период мгновенного тиражирования визуального и аудиального едва ли найдется более ценный товар, чем эксклюзивный сценарий, коммуникация и личный опыт.
На что же в таком случае со своей «интерактивностью» претендует Remote? Так или иначе, проект собрал разом все утопические претензии современного театра – на перформативность, уникальный опыт, партисипативность, иммерсивность и театр-нетеатр, поставив перед нами сразу несколько глобальных вопросов: продолжает ли спектакль-променад быть сегодня искусством или становится аттракционом-товаром? И еще раз, по-детски – так что такое театр?
С этими вопросами можно пройтись по сценарию Remote, и в частности – по Remote Kyiv.
…
В каждом таком спектакле-променаде, где бы он ни проводился (силами Rimini + местной команды), в качестве смысловых узлов используются одни и те же локации: прогулка начинается на кладбище, затем продолжается посещением больницы, подземного перехода, «театра метро» etc. Причем каждый из двух культовых проектов-формул Rimini (что 100% Berlin, что Remote X) претендует на то, чтобы вскрывать одним универсальным ключом-сценарием любое общество и любой город, ведь считается, что фактический адрес их – «наше время». Дело, конечно, не просто в интересных, заряженных энергией местах: зона – это сеттинг, арена для определенной ситуации и состояния. Кладбище – место, где смыкаются «конец» и «начало», пункт перехода, декорация, с помощью которой синтезированный голос в наушниках задает тему «нет мертвого, есть только по-другому живое». Больница – особое резервуарное измерение, где жизнь течет вдали от социального; атмосфера, позволяющая наглядно продемонстрировать присутствие живого в мертвом и мертвого в живом: здесь голос задает вопрос «будем ли мы классически живыми, если нашим жизнеобеспечением займутся мертвые, напечатанные на 3D принтере органы?» Прогулка в царство подземки, как и в целом отрезки-интеракции между узловыми остановками (предложение почувствовать себя стаей, прогуляться как «отряд победителей») – возможность посмотреть, как одно и то же действие меняет свой интерпретационный окрас в зависимости от заданных обстоятельств или навязанной роли.
Как и было сказано выше, игровая форма спектакля-променада – это инструмент для исследования: поведения в группе, управляемости, индивидуального мышления и т. д. То есть всего того, что можно было бы назвать социальным театром. Но художественный центр тяжести, или запрограммированный Rimini эффект, кажется, кроется вовсе не в прогулке по городу как таковой, не в выполнении команд и даже не во взаимодействии с другими участниками. (Иначе с таким же успехом любую игру, которая стала частью социологического или психологического исследования, надо не в шутку назвать театром). Эффект заключается в том, что интонационно наполняет это взаимодействие – в тексте.
Тем, кто проходил Remote в каком-либо из городов, следующий мысленный эксперимент сделать будет очень просто. Давайте на мгновение представим, что в течение всего маршрута (киевский начинается на Зверинецком кладбище и заканчивается на крыше отремонтированного ЦУМа) наушники не выдают никаких монологов о «тонкой грани между живым и мертвым», о времени, которое словно бы идет вспять при твоей ходьбе назад по инструкции, но в целом сетка месседжей и последовательность команд остается той же. Без лапидарного, нарочито прохладного текста, который в отдельных вопросах и коротких репликах стремится к эффекту поэтического укола; текста, который вносит раскол в формирование внутреннего сюжета, интерактивная прогулка была бы просто экскурсией, а цепочка заданий – не более чем легким тестом на поведение в группе.
Текст (концепция, сценарий – Кэги, драматургия – Алеша Бегрич) – таки главный подозреваемый и претендент на наличие художественной потенции здесь. Его мишень – парадокс, провокация, разнонаправленность фабулы и сюжета, если хотите: каждому жесту, производимому во время прогулки, или каждому мотиву этого жеста он будто бы ставит вопрос: «А так ли это?» (Хороший пример: «А лучше ли люди, идущие по другую сторону от вас?» – при делении на «конформистов» и «индивидуалов» по правую и левую части дороги). Без сомнения, несколько лет назад Rimini написали простой, терминологически общедоступный, но в основе своей философский текст, в котором произведен тщательный отбор средств выразительности.
Как же тогда обстоят дела с другими компонентами? Что отличает воздействие текста в театре от произнесенного художественного текста самого по себе? Ответ будет примерно такой: театральный эффект от текста, как от активного элемента, участвующего в построении целого, невозможен без контекста произношения – без того, кто/что его произносит или без уникального как. Именно это так неприятно осложняло жизнь семиологам, по этому поводу Патрис Пави в первом Словаре театра писал: «Семиотика языка и семиотика игры являются диаметрально противоположными…», «имеет место диалектическая напряженность между драматическим текстом и актером, … основанная на том факте, что акустические компоненты лингвистического знака являются интегральной частью вокальных ресурсов, используемых актером». Другими словами, смысл и эффект спектакля – это нечто такое, что достигается не единством/ тождеством текста и условной сцены, а их несоответствием и производимым этим несоответствием напряжением. Здесь можно задаться вопросом: влиял бы текст Remote таким же образом на участников, если бы шел в отрыве от произношения, интонирования его специально синтезированным голосом? Ответ, скорее всего – нет.
В связи с этим напрашивается парадоксальный вывод: Remote – это театр, причем хорошо знакомый, стремящийся к формуле «А играет В на глазах у С», только актером, вопреки популярным утверждениям, здесь оказываются не участники, а голос-проводник(!). Участие же зрителей, о котором так много говорят, сводится к элементарной схеме интерактива: оно не меняет существенно ход театрального сценария, не разрывает конструкцию целого, неспособно радикально развернуть сюжет.
Другая проблема – это множественность «ремоутов». Сегодня Remote X – это франшиза, в которой текст, голос, маршрут (все компоненты целого) являются динамическими единицами, всякий раз адаптируются под новый город. В театре актер (носитель действия, не обязательно человек) и текст его роли – неделимое целое; здесь невозможно провести простую операцию по разделению веса значения на две тары, а неопровержимую значимость деталей, их уникальной организации в структуре доказывают массы уж совсем известных примеров: стоит только вспомнить находящиеся в разных вселенных тексты Шекспира и Кида – при том, что с точки зрения последовательности и фактажа они сообщали об одном и том же.
В таком случае предположим, что эстетическая ценность Remote – вещь гибкая и мигрирующая, и даже не всегда предсказуемо мигрирующая в соответствии с интенцией своих создателей «на местах». Новый актер может напрочь переписать своими данными всю партитуру и драматургию роли, поэтому наряду с уникальным маршрутом, уникальной, конечно, публикой, очень важными составляющими выступают блоки локализированного текста и синтетический голос в новом языке.
Важной чертой, скажем, англоязычного Remote была гибкость голоса и его размещение в комфортном (пожалуй, даже слишком комфортном) для пары слушатель/лектор низком регистре – он балансировал где-то между звучанием заботливого психолога и звучанием настойчивого сотрудника ФБР. Для создателей Remote Kyiv принципиальным стал запуск украиноязычного проводника, что, безусловно, повышало шансы проекта на уникальность, но вело к своим трудностям: украинского языка среди раскладок программы, разработанной Rimini, не было. Компания Uzahvati использовала программу, созданную в Харькове для сопровождения слепых: голос от Remote Kyiv – что женский, что еще дополнительно разработанный мужской – оказался куда менее способным интонировать, звучать «по-человечески», вызывать непроизвольное доверие, чем голоса оригинальной программы. Казалось бы, это деталь. Но тем самым к нулю свелось подспудное противоречие, напряжение между искусственным и настоящим – действительно актуальный комок парадоксов, с которым по понятным причинам хотят работать современные художники.
В итоге голос (ведущий актер) компьютерной программы в Remote Kyiv с самого начала воспринимался как чужеродный, враждебный, либо же просто никакой – не вызывающий сложных чувств от игры правды с неправдой. Вставки, касающиеся исключительно Киева (такие как шутка про подземный бар в переходе), не сшивали реалии Киева с проблематикой Remote («новая чувственность», доверие и манипуляция, живое/неживое, искусственный интеллект), а философские провокации и вопросы без ответа, потеряв подпорку в виде других элементов, остались на уровне легкой инъекции сантиментом – они позволяли участнику всплакнуть или улыбнуться «о своем».
…
Как бы то ни было, а вопрос границ искусства/не-искусства по отношению к такому поливариантному опыту как Remote все еще кажется интересней вопроса «театр ли это». Очевидно, что сегодня критерием причисления к рангу искусства не может стать простое соответствие какому-нибудь из канонов: жанру, форме, школе и проч. Поэтому определение критериев – одна из первостепенных задач современного искусствоведения.
Легко вспомнить Хайнера Гёббельса, чьей отправной точкой стала музыка, или Роберта Уилсона, оттолкнувшегося от, скажем так, архитектуры движения/танца. Штефан Кэги, один из трех лидеров группы Rimini Protokoll – журналист. И когда экспериментаторы Rimini получали Европейскую театральную премию «за новые формы», они получали ее именно за то, что удивительным образом сочетали статистику, лабораторный опыт, фактаж с театрализацией и эстетикой. Театр для Кэги – аппарат, с помощью которого можно изучать социум, исследовать общество, влиять на него.
Группе, превратившей балансирование на острие «вымышленного/реального» в движок своей работы, принадлежит не просто ряд спектаклей, но ряд форматов, закрепившихся за ними навсегда: как минимум, к таким можно отнести формулу культового 100% Berlin и Remote X. Без сомнения, проекты на пересечении различных дисциплин часто куда интереснее режиссерских построений внутри сцены-коробки. К тому же, они оправданы состоянием науки и ландшафтом современной мысли. Другой вопрос – достигают ли они тех целей, которые ставят перед собой.
Итак, следует сделать шаг назад.
…
Когда в 1960-х заговорили о театре, где роли «зритель» и «актер» оказались плавающими («Дионис 69»), об искусстве перформанса, предполагалось, что это замещение, принцип активного прочтения-участия станет протестом против капиталистической тенденции превращать искусство в товар (а точнее – презентовать следы жизни искусства в виде объектов); протестом против «общества спектакля» Ги Дебора и «одномерного человека» Герберта Маркузе. В отличие от объекта, который существует как бы отдельно от зрителя (казалось, что без потери смысла спектакль можно механически воспроизвести и в пустой сцене-коробке), личный опыт или, тем более, процесс коммуникации сделать товаром куда сложнее. Стоит ли говорить, что при таких идеях к концу ХХ века привычная актерская игра в режиме «как будто», «если бы» прекратила вызывать хоть сколько-нибудь серьезное доверие и стала ассоциироваться с театральным масскультом – очередным средством для отвода глаз.
Тенденция актуальна и сегодня: именно на развитии коммуникационного аспекта завязаны многие опыты современного театра или точнее – современных театральных практик.
Конечно, когда сюжет/ событийный ряд/ смысл становятся результатом труда и выбора, возникают трудности с прежде понятным и регламентированным разграничением «быта/ не театра» и «искусства/ театра». Но дело не только в том, что сегодня их часто попросту сшивают между собой – так, как будто каждый компонент по отдельности все еще виден. Все куда сложнее. В исследовании театральности быта Игорь Смирнов, например, отмечает: ситуационисты, приравнивая повседневную жизнь к активному участию, генерированию а-типичных ситуаций и акций, боролись с пассивным потреблением и «всеобщим спектаклем», но делали они это с помощью не менее искусственного спектакля (что значит – театр едва ли может быть документальным). Для Кети Чухров, идущей в эссе Repetition as The Performative Syndrome of Dying по стопам Делёза, актуален вывод: вся проблема «старого» театра (театра объекта/зрелища, не театра участия) в том, что актер играл только того, кто уже играл. То есть, неважно, говорим ли мы об открытой структуре с вариативным сценарием, или о замкнутой, но как только перформер/актер начинает осознанно интенсифицировать свое присутствие – он становится исполнителем, ни о каком «чистом присутствии» не может быть и речи. Добавьте к этому попытку поспорить с еще одним перевертышем: в период мгновенного тиражирования визуального и аудиального едва ли найдется более ценный товар, чем эксклюзивный сценарий, коммуникация и личный опыт.
На что же в таком случае со своей «интерактивностью» претендует Remote? Так или иначе, проект собрал разом все утопические претензии современного театра – на перформативность, уникальный опыт, партисипативность, иммерсивность и театр-нетеатр, поставив перед нами сразу несколько глобальных вопросов: продолжает ли спектакль-променад быть сегодня искусством или становится аттракционом-товаром? И еще раз, по-детски – так что такое театр?
С этими вопросами можно пройтись по сценарию Remote, и в частности – по Remote Kyiv.
…
В каждом таком спектакле-променаде, где бы он ни проводился (силами Rimini + местной команды), в качестве смысловых узлов используются одни и те же локации: прогулка начинается на кладбище, затем продолжается посещением больницы, подземного перехода, «театра метро» etc. Причем каждый из двух культовых проектов-формул Rimini (что 100% Berlin, что Remote X) претендует на то, чтобы вскрывать одним универсальным ключом-сценарием любое общество и любой город, ведь считается, что фактический адрес их – «наше время». Дело, конечно, не просто в интересных, заряженных энергией местах: зона – это сеттинг, арена для определенной ситуации и состояния. Кладбище – место, где смыкаются «конец» и «начало», пункт перехода, декорация, с помощью которой синтезированный голос в наушниках задает тему «нет мертвого, есть только по-другому живое». Больница – особое резервуарное измерение, где жизнь течет вдали от социального; атмосфера, позволяющая наглядно продемонстрировать присутствие живого в мертвом и мертвого в живом: здесь голос задает вопрос «будем ли мы классически живыми, если нашим жизнеобеспечением займутся мертвые, напечатанные на 3D принтере органы?» Прогулка в царство подземки, как и в целом отрезки-интеракции между узловыми остановками (предложение почувствовать себя стаей, прогуляться как «отряд победителей») – возможность посмотреть, как одно и то же действие меняет свой интерпретационный окрас в зависимости от заданных обстоятельств или навязанной роли.
Как и было сказано выше, игровая форма спектакля-променада – это инструмент для исследования: поведения в группе, управляемости, индивидуального мышления и т. д. То есть всего того, что можно было бы назвать социальным театром. Но художественный центр тяжести, или запрограммированный Rimini эффект, кажется, кроется вовсе не в прогулке по городу как таковой, не в выполнении команд и даже не во взаимодействии с другими участниками. (Иначе с таким же успехом любую игру, которая стала частью социологического или психологического исследования, надо не в шутку назвать театром). Эффект заключается в том, что интонационно наполняет это взаимодействие – в тексте.
Тем, кто проходил Remote в каком-либо из городов, следующий мысленный эксперимент сделать будет очень просто. Давайте на мгновение представим, что в течение всего маршрута (киевский начинается на Зверинецком кладбище и заканчивается на крыше отремонтированного ЦУМа) наушники не выдают никаких монологов о «тонкой грани между живым и мертвым», о времени, которое словно бы идет вспять при твоей ходьбе назад по инструкции, но в целом сетка месседжей и последовательность команд остается той же. Без лапидарного, нарочито прохладного текста, который в отдельных вопросах и коротких репликах стремится к эффекту поэтического укола; текста, который вносит раскол в формирование внутреннего сюжета, интерактивная прогулка была бы просто экскурсией, а цепочка заданий – не более чем легким тестом на поведение в группе.
Текст (концепция, сценарий – Кэги, драматургия – Алеша Бегрич) – таки главный подозреваемый и претендент на наличие художественной потенции здесь. Его мишень – парадокс, провокация, разнонаправленность фабулы и сюжета, если хотите: каждому жесту, производимому во время прогулки, или каждому мотиву этого жеста он будто бы ставит вопрос: «А так ли это?» (Хороший пример: «А лучше ли люди, идущие по другую сторону от вас?» – при делении на «конформистов» и «индивидуалов» по правую и левую части дороги). Без сомнения, несколько лет назад Rimini написали простой, терминологически общедоступный, но в основе своей философский текст, в котором произведен тщательный отбор средств выразительности.
Как же тогда обстоят дела с другими компонентами? Что отличает воздействие текста в театре от произнесенного художественного текста самого по себе? Ответ будет примерно такой: театральный эффект от текста, как от активного элемента, участвующего в построении целого, невозможен без контекста произношения – без того, кто/что его произносит или без уникального как. Именно это так неприятно осложняло жизнь семиологам, по этому поводу Патрис Пави в первом Словаре театра писал: «Семиотика языка и семиотика игры являются диаметрально противоположными…», «имеет место диалектическая напряженность между драматическим текстом и актером, … основанная на том факте, что акустические компоненты лингвистического знака являются интегральной частью вокальных ресурсов, используемых актером». Другими словами, смысл и эффект спектакля – это нечто такое, что достигается не единством/ тождеством текста и условной сцены, а их несоответствием и производимым этим несоответствием напряжением. Здесь можно задаться вопросом: влиял бы текст Remote таким же образом на участников, если бы шел в отрыве от произношения, интонирования его специально синтезированным голосом? Ответ, скорее всего – нет.
В связи с этим напрашивается парадоксальный вывод: Remote – это театр, причем хорошо знакомый, стремящийся к формуле «А играет В на глазах у С», только актером, вопреки популярным утверждениям, здесь оказываются не участники, а голос-проводник(!). Участие же зрителей, о котором так много говорят, сводится к элементарной схеме интерактива: оно не меняет существенно ход театрального сценария, не разрывает конструкцию целого, неспособно радикально развернуть сюжет.
Другая проблема – это множественность «ремоутов». Сегодня Remote X – это франшиза, в которой текст, голос, маршрут (все компоненты целого) являются динамическими единицами, всякий раз адаптируются под новый город. В театре актер (носитель действия, не обязательно человек) и текст его роли – неделимое целое; здесь невозможно провести простую операцию по разделению веса значения на две тары, а неопровержимую значимость деталей, их уникальной организации в структуре доказывают массы уж совсем известных примеров: стоит только вспомнить находящиеся в разных вселенных тексты Шекспира и Кида – при том, что с точки зрения последовательности и фактажа они сообщали об одном и том же.
В таком случае предположим, что эстетическая ценность Remote – вещь гибкая и мигрирующая, и даже не всегда предсказуемо мигрирующая в соответствии с интенцией своих создателей «на местах». Новый актер может напрочь переписать своими данными всю партитуру и драматургию роли, поэтому наряду с уникальным маршрутом, уникальной, конечно, публикой, очень важными составляющими выступают блоки локализированного текста и синтетический голос в новом языке.
Важной чертой, скажем, англоязычного Remote была гибкость голоса и его размещение в комфортном (пожалуй, даже слишком комфортном) для пары слушатель/лектор низком регистре – он балансировал где-то между звучанием заботливого психолога и звучанием настойчивого сотрудника ФБР. Для создателей Remote Kyiv принципиальным стал запуск украиноязычного проводника, что, безусловно, повышало шансы проекта на уникальность, но вело к своим трудностям: украинского языка среди раскладок программы, разработанной Rimini, не было. Компания Uzahvati использовала программу, созданную в Харькове для сопровождения слепых: голос от Remote Kyiv – что женский, что еще дополнительно разработанный мужской – оказался куда менее способным интонировать, звучать «по-человечески», вызывать непроизвольное доверие, чем голоса оригинальной программы. Казалось бы, это деталь. Но тем самым к нулю свелось подспудное противоречие, напряжение между искусственным и настоящим – действительно актуальный комок парадоксов, с которым по понятным причинам хотят работать современные художники.
В итоге голос (ведущий актер) компьютерной программы в Remote Kyiv с самого начала воспринимался как чужеродный, враждебный, либо же просто никакой – не вызывающий сложных чувств от игры правды с неправдой. Вставки, касающиеся исключительно Киева (такие как шутка про подземный бар в переходе), не сшивали реалии Киева с проблематикой Remote («новая чувственность», доверие и манипуляция, живое/неживое, искусственный интеллект), а философские провокации и вопросы без ответа, потеряв подпорку в виде других элементов, остались на уровне легкой инъекции сантиментом – они позволяли участнику всплакнуть или улыбнуться «о своем».
…
Как бы то ни было, а вопрос границ искусства/не-искусства по отношению к такому поливариантному опыту как Remote все еще кажется интересней вопроса «театр ли это». Очевидно, что сегодня критерием причисления к рангу искусства не может стать простое соответствие какому-нибудь из канонов: жанру, форме, школе и проч. Поэтому определение критериев – одна из первостепенных задач современного искусствоведения.
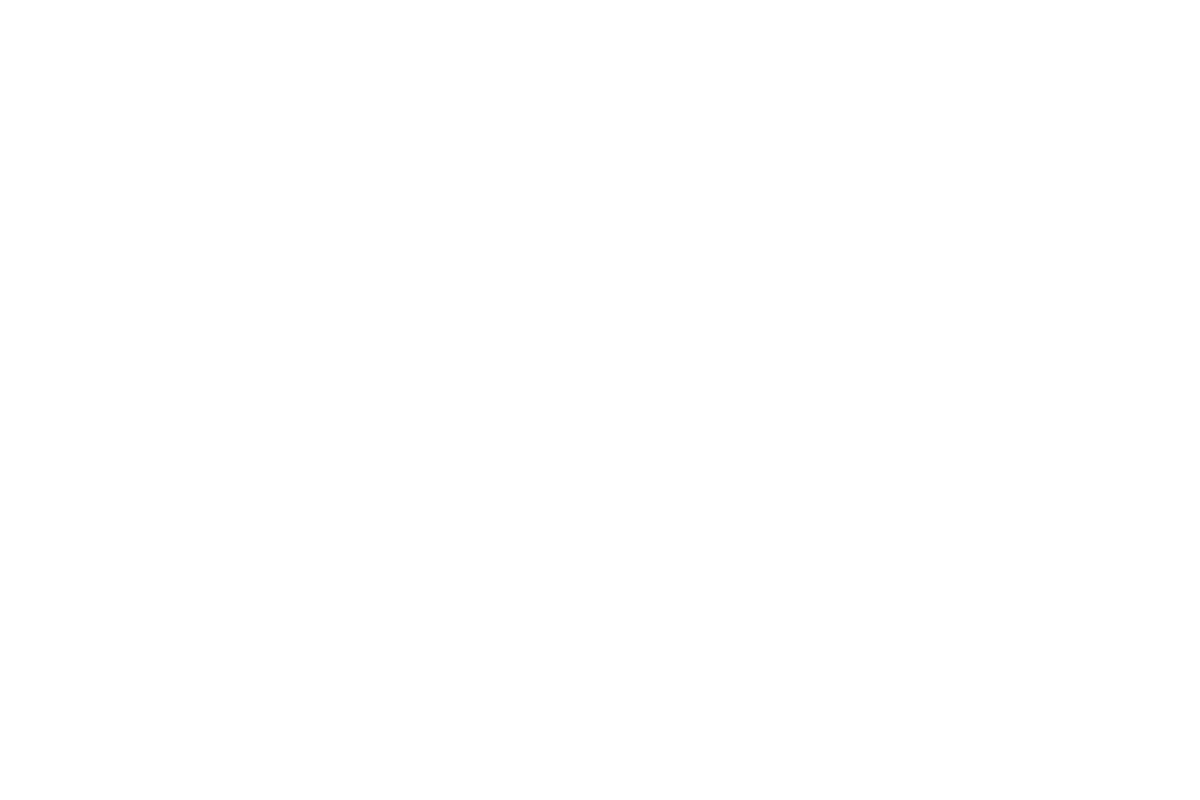
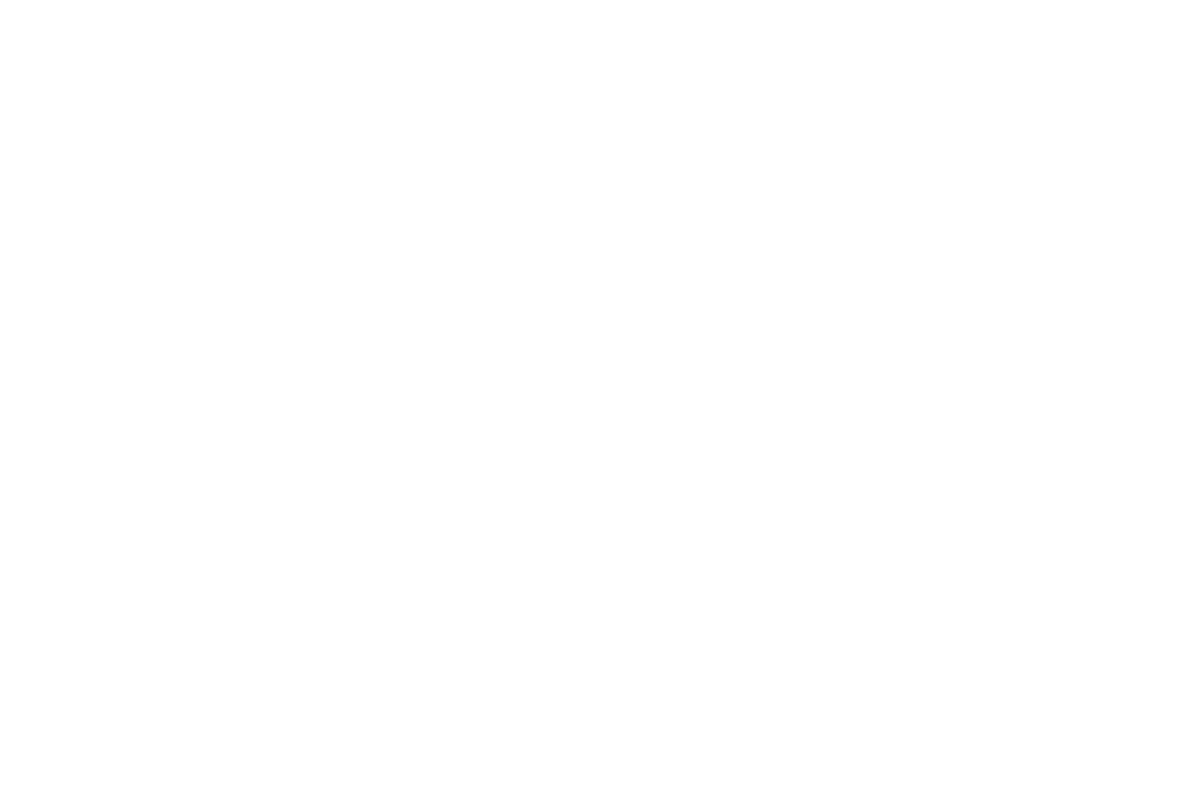
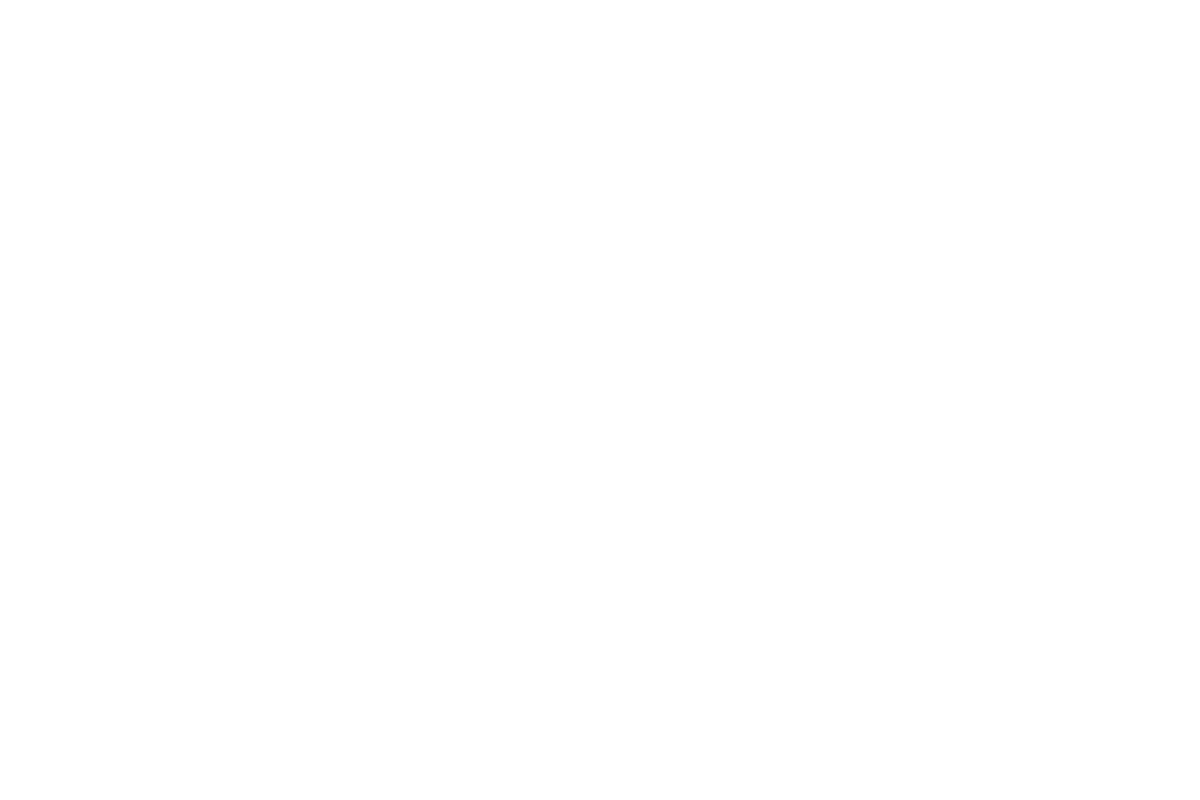
Фото с официального сайта компании Uzahvati
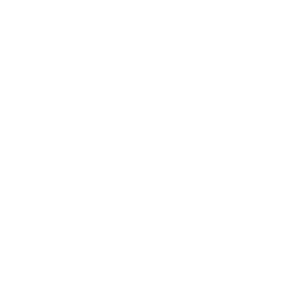
Елена Мигашко
Всё из раздела «Практика»

