Театр вне театра
Иван Куркин. Между ролевой игрой и театром
Полина Коршунова
Интервью с театральным режиссером и директором детского игрового лагеря "Нить Ариадны" Иваном Куркиным.
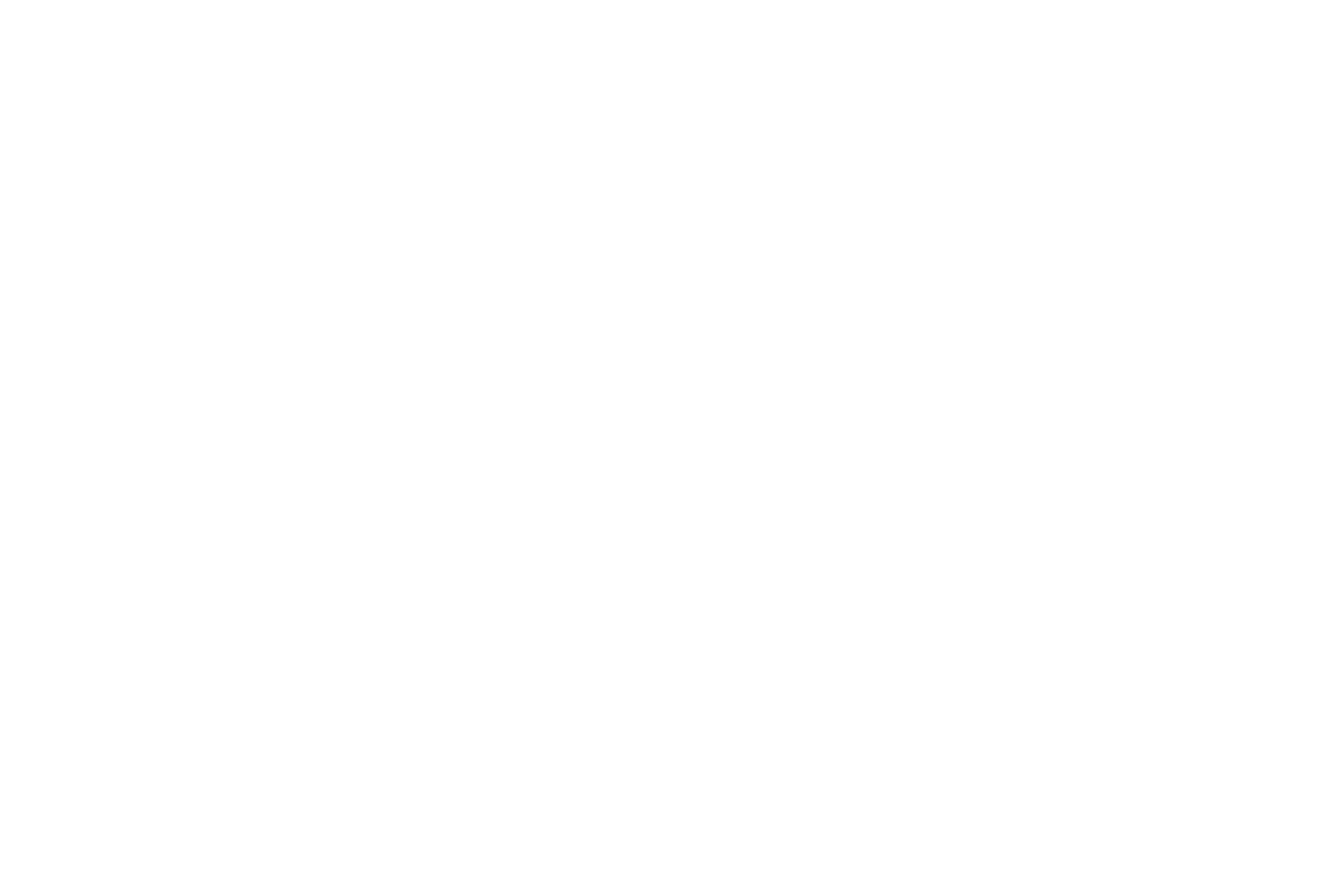
Фото Полины Коршуновой
"Нить Ариадны" – первый ролевой лагерь в Санкт-Петербурге. Приезжая на смены, ребята разных возрастов получают возможность не просто попасть в любимую книгу, а стать героем, действующим лицом. Ролевая игра – это модель какого-то мира (например, ролевое движение в России началось с игр по мотивам книги Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит"), в которой каждый участник имеет свою роль и действует исходя из характеристик, мотиваций и целей своей роли.
Иван Куркин является одним из четырех основателей лагеря, директором, главным мастером смен и театральным режиссером. Иван учился на факультете театра кукол в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ), параллельно занимался вожатской деятельностью в педагогическом отряде "Эспада", играл в ролевые игры. Затем вместе с братом Петром Куркиным и единомышленниками создал лагерь "Нить Ариадны". Также Иван – выпускник магистерской программы на Новой сцене Александринского театра.
Иван поставил иммерсивный спектакль "Слушай Город" (спектакль вошел в лонг-лист "Самых заметных постановок сезона 2016-2017"), был режиссером локации "Невский проспект" в проекте "Маршрут Старухи" (2018), руководил проектом "Сычевальня. День подростков на Новой Сцене" (2018, 2019), поставил спектакль "Мария и я" в Хабаровском ТЮЗе (2019, номинирован на премию "Золотая маска" в конкурсе "Эксперимент"), был перформером в спектакле "Игрушки" компании "Сигна" (2019).
Наш разговор с Ваней трудно назвать интервью в классическом смысле. Во-первых, потому что мы хорошо друг друга знаем, во-вторых, потому что многие годы работали вместе, создавая смены ("Лаборатория", "Дом, в котором"), о которых пойдет речь.
Иван Куркин является одним из четырех основателей лагеря, директором, главным мастером смен и театральным режиссером. Иван учился на факультете театра кукол в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ), параллельно занимался вожатской деятельностью в педагогическом отряде "Эспада", играл в ролевые игры. Затем вместе с братом Петром Куркиным и единомышленниками создал лагерь "Нить Ариадны". Также Иван – выпускник магистерской программы на Новой сцене Александринского театра.
Иван поставил иммерсивный спектакль "Слушай Город" (спектакль вошел в лонг-лист "Самых заметных постановок сезона 2016-2017"), был режиссером локации "Невский проспект" в проекте "Маршрут Старухи" (2018), руководил проектом "Сычевальня. День подростков на Новой Сцене" (2018, 2019), поставил спектакль "Мария и я" в Хабаровском ТЮЗе (2019, номинирован на премию "Золотая маска" в конкурсе "Эксперимент"), был перформером в спектакле "Игрушки" компании "Сигна" (2019).
Наш разговор с Ваней трудно назвать интервью в классическом смысле. Во-первых, потому что мы хорошо друг друга знаем, во-вторых, потому что многие годы работали вместе, создавая смены ("Лаборатория", "Дом, в котором"), о которых пойдет речь.
Полина Коршунова: Это интервью будет опубликовано в разделе "Театр вне театра", так что попробуем поговорить о лагере и твоей работе в этом ключе. Ваня, расскажи, что такое "Нить Ариадны" сейчас.
Иван Куркин: Это очень своевременный вопрос, потому что весной будет десять лет "Нити Ариадны". Интересно на это посмотреть, конечно. Сейчас, наверное, это комьюнити в первую очередь. Комьюнити детей, педагогов, подростков, у которого есть свои законы. Это уже приближает "Нить Ариадны" к театру, потому что театр – тоже, как мне кажется, про комьюнити или про создание комьюнити, про работу с ним. Даже очень классический традиционный театр. "Нить Ариадны" похож на какой-то такой театр и в классическом и в очень современном понимании. Это как бы сама практика комьюнити – сообщества людей со сходными интересами, модель общества, в которой в игровом режиме тестируются всякие вещи.
Если сначала это было более узко – про ролевую игру, про погружение в другие миры, то сейчас – про воспитание личности через создание, мы условно говорим, "чудес". Через создание опыта, практик, игровых ситуаций, через рефлексию к пониманию, что пригодно для жизни в сегодняшнем обществе. Поскольку мы работаем с подростками, с детьми – это постоянное развитие. Это очень интересно.
Если сначала это было более узко – про ролевую игру, про погружение в другие миры, то сейчас – про воспитание личности через создание, мы условно говорим, "чудес". Через создание опыта, практик, игровых ситуаций, через рефлексию к пониманию, что пригодно для жизни в сегодняшнем обществе. Поскольку мы работаем с подростками, с детьми – это постоянное развитие. Это очень интересно.
Ты сказал, что сначала это была ролевая история, потом, я помню, в какой-то момент мы начали искать форматы.
Ты стал видеть, что ролевое и театральное схожи. Хотя ролевое взаимодействие – это игра, где каждый, условно, актер и исполняет роль, а театр, по крайней мере тогда, был про деление на сцену с актерами и зрительный зал со зрителями, не участвующими в действии.
С чем ты можешь связать переход от стандартной ролевой игры к чему-то междисциплинарному? Возможно, на это повлияла твоя учеба в магистратуре на Новой сцене.
Ты стал видеть, что ролевое и театральное схожи. Хотя ролевое взаимодействие – это игра, где каждый, условно, актер и исполняет роль, а театр, по крайней мере тогда, был про деление на сцену с актерами и зрительный зал со зрителями, не участвующими в действии.
С чем ты можешь связать переход от стандартной ролевой игры к чему-то междисциплинарному? Возможно, на это повлияла твоя учеба в магистратуре на Новой сцене.
Я думаю, что это вопрос бесконечного поиска форматов. Мы все время ищем. Нам важно быть сегодняшними, то есть отвечать сегодняшним запросам ребят, родителей, мира.
Конечно, тут влияет то, что я учился в магистратуре на Новой сцене и какие-то вещи оттуда я сразу стал применять, загораться и тащить в лагерь. За время учебы я видел много социальных проектов с людьми с особыми нуждами, с детьми и с подростками. В какой-то момент у нас появилась смена "Лаборатория", где ролевая игра ушла на второй план, а на первый вышла социальная, театральная работа.
Смена тоже появилась как поиск нового формата. Да и мне это было интереснее на тот момент. Было уже три "Лаборатории", где мы с ребятами делали игры и ставили спектакли. Однако, теперь непонятно куда двигаться дальше. Мы попробовали три раза. Два раза показывали спектакли на Новой сцене Александринского театра. Это все было очень интересно, но не хочется опять делать то же самое.
Конечно, тут влияет то, что я учился в магистратуре на Новой сцене и какие-то вещи оттуда я сразу стал применять, загораться и тащить в лагерь. За время учебы я видел много социальных проектов с людьми с особыми нуждами, с детьми и с подростками. В какой-то момент у нас появилась смена "Лаборатория", где ролевая игра ушла на второй план, а на первый вышла социальная, театральная работа.
Смена тоже появилась как поиск нового формата. Да и мне это было интереснее на тот момент. Было уже три "Лаборатории", где мы с ребятами делали игры и ставили спектакли. Однако, теперь непонятно куда двигаться дальше. Мы попробовали три раза. Два раза показывали спектакли на Новой сцене Александринского театра. Это все было очень интересно, но не хочется опять делать то же самое.
Ты часто говоришь, что ролевая игра и театр – это одно и то же. Однако, мы часто сталкиваемся с трудностями, когда пытаемся соединить, сплавить эти две области на смене. Например, как происходило на позапрошлой "Лаборатории". Мне кажется, что тут есть интересное противоречие.
Да. Мне кажется, что это вопрос специалистов и вообще узконаправленности практик. У нас есть театральное образование, очень консервативное, откуда большая часть людей выходит с консервативными взглядами, отвергая все и всех, кто пытается сделать что-то современное. И есть маленькое сообщество людей, которое интересуется современным театром, разными европейскими современными практиками, хотя и в России тоже достаточно опытов.
При этом есть ролевые игры. У нас в стране ролевые игры вообще не входят в профессиональное поле. Для людей, которые стремятся этим профессионально заниматься, это, как мне кажется, большая боль, потому что это тоже целый пласт человеческой практики. Геймдизайн, создание игр – это много где используется, но профессиональной, академической основы у этой практики нет. С одной стороны, здесь есть и плюсы, что это не так заскорузло, как театр, который преподается по системам прошлых веков, то есть это более свободная ситуация. В то же время отсутствуют какие-то парадигмы, жесткие критерии и так далее. Когда мы придумываем смену, на которой мы хотим делать спектакли и игры или же через игру делать спектакль, возникает проблема. Очень классные режиссеры и драматурги круто работают с детьми, с ними интересно детям и мне, но у них нет опыта и понимания про ролевые игры. Грубо говоря, для "Лаборатории" нужны специалисты, которых не бывает, которые могут заниматься с детьми и театром, и ролевой игрой.
Это большая и интересная проблема. Другой вопрос, что пока я не нашел ее решения. Вероятно, оно заключается в том, что нужна половина команды – театральные специалисты, а другая половина – геймдизайнеры. Тут возникает вторая сложность – геймдизайнеров очень трудно найти, потому что многие занимаются этим, как хобби. Петербург в смысле ролевого движения немножечко дыра, хотя на меня можно сейчас обидеться, ведь у нас много людей, которые играют, но это все-таки увлечение. В Москве, на Урале много людей, которые горят ролевыми играми и профессионально ими занимаются. К сожалению, этих людей сложно привезти в Петербург, в детский лагерь в необходимом количестве.
Еще раз повторюсь, что это интересная проблема и ее интересно каждый раз решать, но решить окончательно ее пока не удалось. Это такая попытка усидеть на двух стульях. Хотя эти два стула дают много новых открытий. Например, на "Лаборатории" в этом году работал Артем Томилов. Он делал с детьми ролевую игру. Делал вообще первый раз в жизни, он до этого играл сам может быть два раза в ролевые игры. У них получилась очень интересная игра. Она, конечно, скорее перформанс, чем игра, но это было хорошо. Артем попытался разобраться в том, что такое ролевая игра и чем она отличается от театра. Получился пограничный вариант. Это был в каком-то смысле иммерсивный спектакль и в каком-то смысле ролевая игра, и при этом ни то, и ни другое. Кто еще и в каких условиях сможет подобное произведение сделать?
При этом есть ролевые игры. У нас в стране ролевые игры вообще не входят в профессиональное поле. Для людей, которые стремятся этим профессионально заниматься, это, как мне кажется, большая боль, потому что это тоже целый пласт человеческой практики. Геймдизайн, создание игр – это много где используется, но профессиональной, академической основы у этой практики нет. С одной стороны, здесь есть и плюсы, что это не так заскорузло, как театр, который преподается по системам прошлых веков, то есть это более свободная ситуация. В то же время отсутствуют какие-то парадигмы, жесткие критерии и так далее. Когда мы придумываем смену, на которой мы хотим делать спектакли и игры или же через игру делать спектакль, возникает проблема. Очень классные режиссеры и драматурги круто работают с детьми, с ними интересно детям и мне, но у них нет опыта и понимания про ролевые игры. Грубо говоря, для "Лаборатории" нужны специалисты, которых не бывает, которые могут заниматься с детьми и театром, и ролевой игрой.
Это большая и интересная проблема. Другой вопрос, что пока я не нашел ее решения. Вероятно, оно заключается в том, что нужна половина команды – театральные специалисты, а другая половина – геймдизайнеры. Тут возникает вторая сложность – геймдизайнеров очень трудно найти, потому что многие занимаются этим, как хобби. Петербург в смысле ролевого движения немножечко дыра, хотя на меня можно сейчас обидеться, ведь у нас много людей, которые играют, но это все-таки увлечение. В Москве, на Урале много людей, которые горят ролевыми играми и профессионально ими занимаются. К сожалению, этих людей сложно привезти в Петербург, в детский лагерь в необходимом количестве.
Еще раз повторюсь, что это интересная проблема и ее интересно каждый раз решать, но решить окончательно ее пока не удалось. Это такая попытка усидеть на двух стульях. Хотя эти два стула дают много новых открытий. Например, на "Лаборатории" в этом году работал Артем Томилов. Он делал с детьми ролевую игру. Делал вообще первый раз в жизни, он до этого играл сам может быть два раза в ролевые игры. У них получилась очень интересная игра. Она, конечно, скорее перформанс, чем игра, но это было хорошо. Артем попытался разобраться в том, что такое ролевая игра и чем она отличается от театра. Получился пограничный вариант. Это был в каком-то смысле иммерсивный спектакль и в каком-то смысле ролевая игра, и при этом ни то, и ни другое. Кто еще и в каких условиях сможет подобное произведение сделать?
Я правильно понимаю, что это не было показано на Новой Сцене и это невозможно там показать? От игр там что-то сохранилось?
В этом году у нас был план. Мне Ада Мухина рассказывала про то, что в немецком театре, я не помню точно в каком, есть проект, вроде дня подростков, но там это делается как: подростки захватывают весь театр, все пространство, все службы. Весь день там праздник непослушания. В моем понимании – это что-то интересное, когда подростки везде в театре. И все, что они хотят, делается.
Мы попробовали предложить Александринке такой формат. Хотели взять буфет, холл и все-все-все. Сделать большой подростковый мир, по которому можно будет путешествовать. Там, наверное, было бы место игре, но театр на это не пошел, потому что у них была Олимпиада, много других проектов. В итоге у нас была небольшая коробка, как в предыдущие годы. Там все равно были интересные вещи со звуком, с танцем, но это всё в зоне традиционного театра, когда зритель сидит, а ребята на сцене что-то делают.
Игровые практики очень хочется перенести в театр, но это сделать очень сложно. Я назвал только одну причину, но есть и другие, конечно.
Мы попробовали предложить Александринке такой формат. Хотели взять буфет, холл и все-все-все. Сделать большой подростковый мир, по которому можно будет путешествовать. Там, наверное, было бы место игре, но театр на это не пошел, потому что у них была Олимпиада, много других проектов. В итоге у нас была небольшая коробка, как в предыдущие годы. Там все равно были интересные вещи со звуком, с танцем, но это всё в зоне традиционного театра, когда зритель сидит, а ребята на сцене что-то делают.
Игровые практики очень хочется перенести в театр, но это сделать очень сложно. Я назвал только одну причину, но есть и другие, конечно.
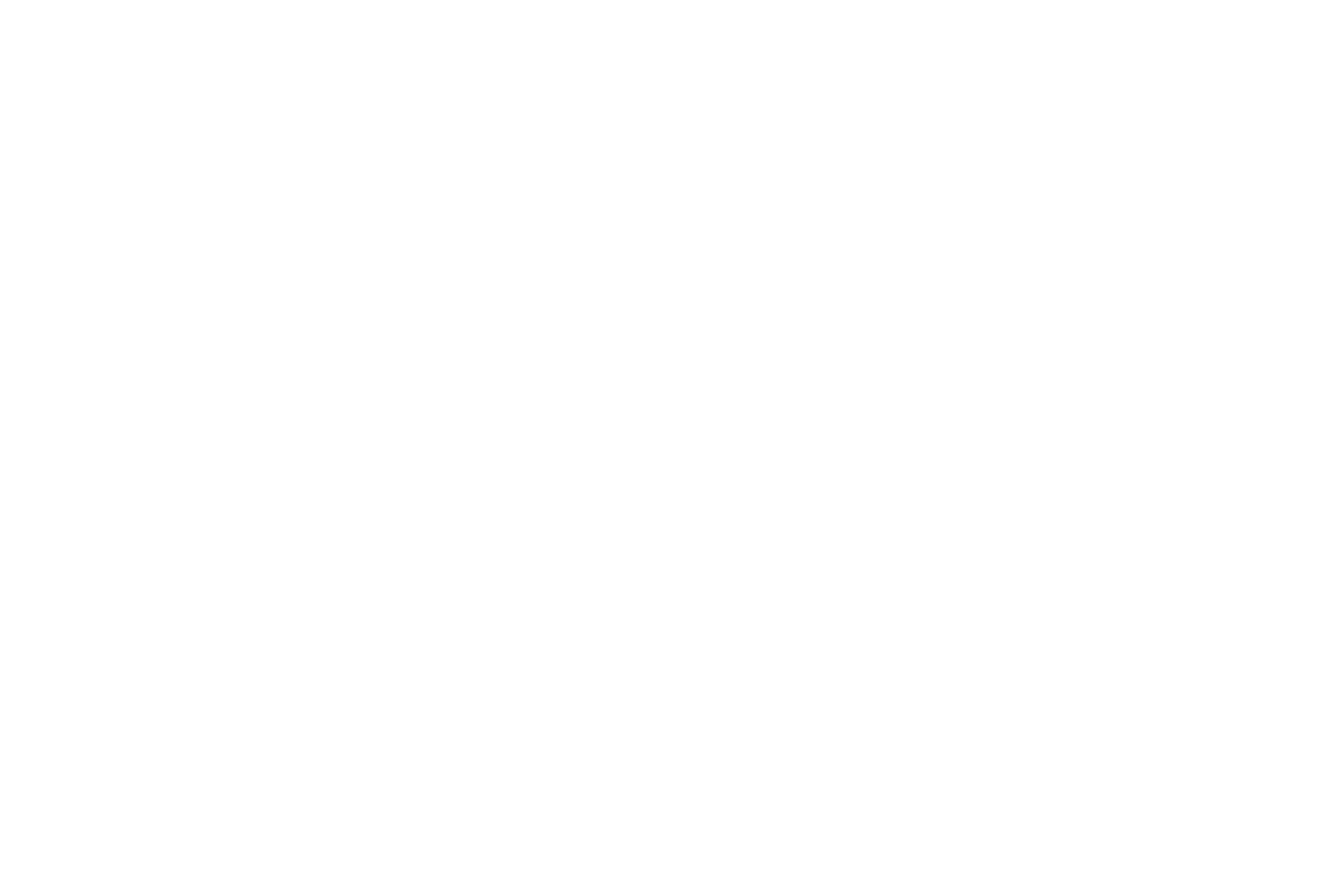
Фото Полины Коршуновой
Что показы дают детям и родителям?
Мы получаем очень много отзывов, после которых есть ощущение, что этим нужно заниматься. Я постоянно рассказываю всем пример про волосы, ты его тоже знаешь, ты была на первой Лаборатории. Причем ситуация стала традиционной.
На каждой лаборатории встает вопрос, что дети хотят покрасить волосы, а им родители не дают. Не дают, потому что школа против, родители не хотят связываться со школой. На самой первой "Лаборатории" дети сделали про это форум-спектакль, высказали свою боль, а это реальная боль. Это мои волосы, почему я не могу их покрасить?! Мы показывали спектакль в родительский день и потом, когда ребята вернулись в отряды, оказалось, что чуть ли ни пяти детям из сорока, у нас тогда было сорок детей, разрешили перекрасить волосы.
Мне в этом нравится то, что мы помогли договориться. То есть кухонный разговор дома всегда приводил к одному и тому же. Нельзя. Запрет. А когда языком театра ребята сообща передают свои эмоции, внутри родителя происходит сдвиг. Это сообщение доходит до других рецепторов. Родители вспоминают, что они тоже были подростками, детьми, они тоже что-то хотели, а им запрещали.
Театр дает возможность поменять принцип восприятия. Это было на первой Лаборатории, было на второй, на третью приехал мальчик, которому разрешили покрасить волосы на прошлой, он был с цветными волосами. Вот конкретный кейс, когда театр помогает договориться.
На каждой лаборатории встает вопрос, что дети хотят покрасить волосы, а им родители не дают. Не дают, потому что школа против, родители не хотят связываться со школой. На самой первой "Лаборатории" дети сделали про это форум-спектакль, высказали свою боль, а это реальная боль. Это мои волосы, почему я не могу их покрасить?! Мы показывали спектакль в родительский день и потом, когда ребята вернулись в отряды, оказалось, что чуть ли ни пяти детям из сорока, у нас тогда было сорок детей, разрешили перекрасить волосы.
Мне в этом нравится то, что мы помогли договориться. То есть кухонный разговор дома всегда приводил к одному и тому же. Нельзя. Запрет. А когда языком театра ребята сообща передают свои эмоции, внутри родителя происходит сдвиг. Это сообщение доходит до других рецепторов. Родители вспоминают, что они тоже были подростками, детьми, они тоже что-то хотели, а им запрещали.
Театр дает возможность поменять принцип восприятия. Это было на первой Лаборатории, было на второй, на третью приехал мальчик, которому разрешили покрасить волосы на прошлой, он был с цветными волосами. Вот конкретный кейс, когда театр помогает договориться.
Спасибо Аугусто Боалю (бразильский театральный режиссер, практик форум-театра) …
Да! И Паулу Фрейре (бразильский психолог, педагог, автор известной книги "Педагогика угнетенных"). Вообще всем сегодняшним практикам, ведь очень много сейчас социальных театральных проектов. Сейчас театр меняет и взаимодействует с пространством жизни. Мне кажется, что это очень важно. Иначе зачем все это? Много же пишут современные блогеры, критики, что давайте все это нафиг снесем, потому что непонятно, зачем это надо, если просто миллионы рублей туда вкладывают, а в итоге люди в красивых платьях выходят сказать текст. Для меня иногда это так и выглядит. Я очень часто в театре скучаю. Мне больше нравится, когда театр соединяется с жизнью и тогда получается жизнь, а не жизнеподобие. Это происходит на "Лаборатории".
С одной стороны, есть ситуация, что сидят зрители в темноте и смотрят на ребят, и в какой-то степени это даже похоже на отчетный концерт, но по факту происходят изменения внутри семей. Родители говорят много теплых слов, они артикулируют, что происходят изменения в отношениях родителей и детей после этих показов. Поэтому я абсолютно уверен, что это значимая история.
С одной стороны, есть ситуация, что сидят зрители в темноте и смотрят на ребят, и в какой-то степени это даже похоже на отчетный концерт, но по факту происходят изменения внутри семей. Родители говорят много теплых слов, они артикулируют, что происходят изменения в отношениях родителей и детей после этих показов. Поэтому я абсолютно уверен, что это значимая история.
Помимо «Лаборатории» есть цикл игр по "Дому, в котором…". Сначала там появился театральный художник в разработке смены, потом мы пробовали делать смену, как иммерсивный спектакль. Расскажи про это.
Сложно говорить, потому что каждая смена отличается от другой, а их было уже четыре. Тут стоит сказать, что я все-таки идентифицирую себя как театральный режиссер, поэтому, когда я делаю смену (являюсь главным мастером – это как главный режиссер в театре), мне интересно пробовать. В какой-то момент я решил попробовать концепт типа "Вернувшихся", когда у нас есть пространство, нон-стоп время, актеры, которые там действуют и зрители, которые внутри этого пребывают. В результате мы чуть не умерли, потому что это же надо было сделать на четыре дня, а не на два-четыре часа.
Мы разделили ребят на актеров и зрителей. Ребята, которые хотели быть актерами, начали подготовку еще в городе, а все остальные были зрителями. Было интересно, что зрители, наши ребята, которые давно к нам ездят, вдруг стали пытаться активно взаимодействовать, менять события. Мы на это не рассчитывали.
В прошлом году мы делали перформанс. Это мой такой явный "стиль". Я назвал смену "тактильный перформанс" и я даже уже не помню, в чем была изначальная мотивация. Мне было интересно назвать, а потом уже разобраться с тем, что это значит.
В самой этой книге, поскольку Мариам Петросян мультипликатор, очень сочные образы. Мне показалось, что это было бы правильно выражать их через тактильное. В самой книге очень много тактильного: различные материалы, руки…
Мы разделили ребят на актеров и зрителей. Ребята, которые хотели быть актерами, начали подготовку еще в городе, а все остальные были зрителями. Было интересно, что зрители, наши ребята, которые давно к нам ездят, вдруг стали пытаться активно взаимодействовать, менять события. Мы на это не рассчитывали.
В прошлом году мы делали перформанс. Это мой такой явный "стиль". Я назвал смену "тактильный перформанс" и я даже уже не помню, в чем была изначальная мотивация. Мне было интересно назвать, а потом уже разобраться с тем, что это значит.
В самой этой книге, поскольку Мариам Петросян мультипликатор, очень сочные образы. Мне показалось, что это было бы правильно выражать их через тактильное. В самой книге очень много тактильного: различные материалы, руки…
Тела…
Да, есть Слепой, один из главных героев, который познает мир только через тактильное. Мне казалось, что это хороший путь для проживания истории. Мы стали искать, как это сделать. Договорились, что основной язык игры будет тактильным, через прикосновения и т.д. Эту задачу мы не выполнили, но поискали очень много в области перцепции. Как вообще можно еще кроме разговора, жеста, строить взаимодействие?
Еще я пробую на "Доме", это может быть не очень к вопросу театра, запустить бирюзовые принципы. Это когда нет иерархии. В этом году мы даже сделали это темой игры. Как без иерархии может происходить взаимодействие? Я вроде сказал, что это не касается театра, но это тоже театральный эксперимент в том смысле, что это эксперимент о взаимоотношении людей. Как они могут друг с другом общаться, взаимодействовать непривычным образом. Я не могу это пробовать в театральных проектах и лабораториях, потому что там обычно нет денег, нет времени, нет людей. В этом смысле "Нить Ариадны" – большое счастье, потому что это команда, комьюнити, которое готово и любит экспериментировать. Был период в жизни, когда я стеснялся, что это не театр.
А сейчас я думаю, что мне жутко повезло. Можно делать очень много вещей, не быть привязанным к каким-то традициям, догмам и пробовать, пробовать, пробовать. Для меня "Нить Ариадны" – это намного больше театр, чем какой-нибудь официальный государственный театр.
Еще я пробую на "Доме", это может быть не очень к вопросу театра, запустить бирюзовые принципы. Это когда нет иерархии. В этом году мы даже сделали это темой игры. Как без иерархии может происходить взаимодействие? Я вроде сказал, что это не касается театра, но это тоже театральный эксперимент в том смысле, что это эксперимент о взаимоотношении людей. Как они могут друг с другом общаться, взаимодействовать непривычным образом. Я не могу это пробовать в театральных проектах и лабораториях, потому что там обычно нет денег, нет времени, нет людей. В этом смысле "Нить Ариадны" – большое счастье, потому что это команда, комьюнити, которое готово и любит экспериментировать. Был период в жизни, когда я стеснялся, что это не театр.
А сейчас я думаю, что мне жутко повезло. Можно делать очень много вещей, не быть привязанным к каким-то традициям, догмам и пробовать, пробовать, пробовать. Для меня "Нить Ариадны" – это намного больше театр, чем какой-нибудь официальный государственный театр.
Расскажи про режиссуру. Есть ли она в ролевой игре и чем она для тебя отличается от театральной режиссуры?
Очень важно понять точку сравнения. Если мы сравниваем ролевую игру и конвенциональный театр, то там очень много расхождений, но если мы берем современный театр в его полноте, то оказывается, что слишком много похожего и различия тоньше.
Про режиссуру мне сложно говорить, потому что у меня нет школы. У меня нет режиссерского образования. В магистратуре, будем честны, никаких режиссерских занятий не было. Я иногда из-за этого расстраиваюсь, мне этого не хватает, но факт остается фактом. Это может быть то плюсом, то минусом в работе. Так что мне сложно про это говорить, я не до конца понимаю, что это в "школьном" смысле. У меня есть свое видение.
Например, я ничего не понимаю про мизансцену, не понимаю, что такое искусство мизансценирования. Какая разница, кто где стоит и кто в какую сторону повернут? Это не про меня.
Для меня режиссура – это про организацию взаимодействия, про то, как мы встретились, как мы друг с другом общаемся, как мы вместе идем, к чему мы должны прийти в смысле открытия, коммуникации. Поэтому я сейчас интересуюсь горизонтальными, бирюзовыми способами организации.
Для меня это и есть режиссура – попробовать организовать таким образом процесс. А процесс может быть каким угодно. Не обязательно спектакль на сцене. Поэтому я не вижу здесь границы между игрой и театром.
Для меня и там, и там режиссура – это одно и то же.
Это программирование моих ожиданий. Конечно, эти ожидания очень сильно влияют как на зрителя в театре, так и на игрока в ролевой игре, но и те, и другие вольны распознать эти ожидания или проигнорировать их или подчиниться, или вообще не понять, что происходит.
С позиции перформанса – это все одно и то же. Нужно скорее говорить о театральности в игре, об игре в театре. Об элементах одного в другом.
Разница для меня есть в моменте подготовки. Как режиссер я больше готовлю сам. Ролевая игра – менее ответственна. Я мастер, я вам предлагаю, а вы сами себе постройте, сами привезите еду, сами привезите костюмы, вот вам конфликты – играйте в меру своего таланта. Театр более сюрпризный. Он предполагает, что я должен удивить. Разница в этом удивлении. В театре больше природы удивления. Я должен удивить зрителя. В ролевой игре этого меньше. С другой стороны, в хорошей ролевой игре тоже есть этот момент удивления. Тогда хорошая ролевая игра – это уже театр, где мастер пытается удивить игрока.
Про режиссуру мне сложно говорить, потому что у меня нет школы. У меня нет режиссерского образования. В магистратуре, будем честны, никаких режиссерских занятий не было. Я иногда из-за этого расстраиваюсь, мне этого не хватает, но факт остается фактом. Это может быть то плюсом, то минусом в работе. Так что мне сложно про это говорить, я не до конца понимаю, что это в "школьном" смысле. У меня есть свое видение.
Например, я ничего не понимаю про мизансцену, не понимаю, что такое искусство мизансценирования. Какая разница, кто где стоит и кто в какую сторону повернут? Это не про меня.
Для меня режиссура – это про организацию взаимодействия, про то, как мы встретились, как мы друг с другом общаемся, как мы вместе идем, к чему мы должны прийти в смысле открытия, коммуникации. Поэтому я сейчас интересуюсь горизонтальными, бирюзовыми способами организации.
Для меня это и есть режиссура – попробовать организовать таким образом процесс. А процесс может быть каким угодно. Не обязательно спектакль на сцене. Поэтому я не вижу здесь границы между игрой и театром.
Для меня и там, и там режиссура – это одно и то же.
Это программирование моих ожиданий. Конечно, эти ожидания очень сильно влияют как на зрителя в театре, так и на игрока в ролевой игре, но и те, и другие вольны распознать эти ожидания или проигнорировать их или подчиниться, или вообще не понять, что происходит.
С позиции перформанса – это все одно и то же. Нужно скорее говорить о театральности в игре, об игре в театре. Об элементах одного в другом.
Разница для меня есть в моменте подготовки. Как режиссер я больше готовлю сам. Ролевая игра – менее ответственна. Я мастер, я вам предлагаю, а вы сами себе постройте, сами привезите еду, сами привезите костюмы, вот вам конфликты – играйте в меру своего таланта. Театр более сюрпризный. Он предполагает, что я должен удивить. Разница в этом удивлении. В театре больше природы удивления. Я должен удивить зрителя. В ролевой игре этого меньше. С другой стороны, в хорошей ролевой игре тоже есть этот момент удивления. Тогда хорошая ролевая игра – это уже театр, где мастер пытается удивить игрока.
Интересно, как ребята после лагерных смен и дополнительных занятий, которые есть у стажерского отряда "Анкирия" воспринимают театр? Ведь стажерский отряд – это ребята, заинтересованные в педагогике, в помощи на сменах, они часто помогают мастерам, исполняют игротехнические роли (роли, необходимые для продвижения сюжета игры), то есть готовятся продолжать дело…
Это тоже, конечно, очень интересно. Они немножко пребывают в плену у стандартных традиционных взглядов. Мы хотим снова что-то сделать на "Арлекине", поскольку получилось хорошо в прошлый раз. Мы сейчас это обсуждали, они говорят: "Да, это все очень интересно… Разные формы… Но мы хотим просто, чтобы вот на нас зрители смотрели, а мы бы что-то играли в костюмах". Им наоборот не хватает простого понятного театра.
Возможно, это как людям, которые годами занимаются традиционным театром, хочется чего-то нового, так и нашим ребятам, которые играют в ролевые игры, участвуют в театральных социальных проектах, хочется просто попробовать выйти на сцену в костюме и сказать текст. Мы попробуем.
Возможно, это как людям, которые годами занимаются традиционным театром, хочется чего-то нового, так и нашим ребятам, которые играют в ролевые игры, участвуют в театральных социальных проектах, хочется просто попробовать выйти на сцену в костюме и сказать текст. Мы попробуем.
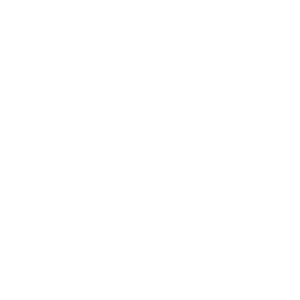
Полина Коршунова
Всё из раздела «Практика»

