Вопросы театрологии
Вопросы Театрологии: Алексей Бартошевич
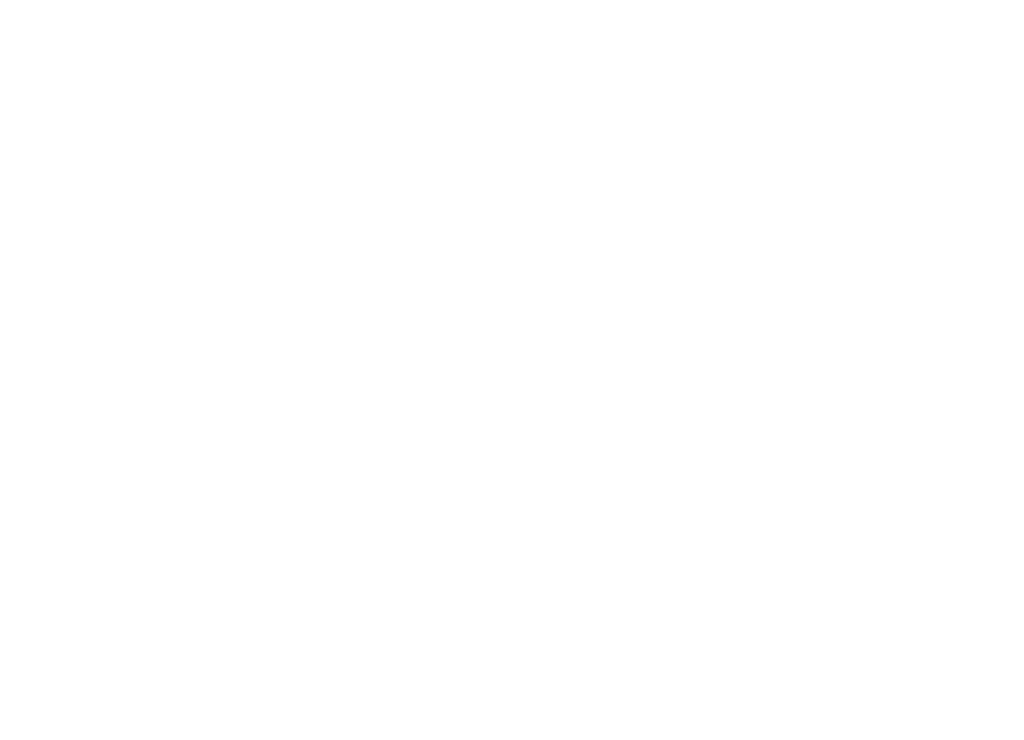
Алексей Вадимович, мы хорошо знаем, что пресловутый «шекспировский вопрос» (связанный с биографией Шекспира) — не является на самом деле научной проблемой. А какой реальный вопрос на сегодняшний день актуален в шекспироведении?
Алексей Бартошевич:
Одна из наиболее острых проблем, вокруг которых выстраиваются дискуссии в современном шекспироведении – проблема интерпретации Шекспира. Проблема становится особенно важной по причине того, что в последние десятилетия шекспироведы наконец-то обратили внимание на театр, которым еще недавно с филологическим высокомерием пренебрегали. Теперь научная шекспирология все прочнее связывается с театроведением. Фундаментальные труды по истории постановок Шекспира – как в театре его времени, так особенно в последующие времена, вплоть до наших дней – теперь создают крупнейшие ученые, прежде писавшие работы чисто филологического характера (Стенли Уэллс, Д. Бартоломьюс, Дж. Стайан и др.).
В современной шекспирологии соседствуют и состязаются два основных направления. Первое из них, заявившее о себе сравнительно недавно, с энергией и шумом, связано с постмодернистским миросознанием. Обращаясь к сценической истории Шекспира, исследователи этого направления без колебаний отвергают саму возможность существования объективных критериев интерпретации. История Шекспира в театре воспринимается ими как серия сменяющих одна другую и не связанных между собой вольных интерпретаций, для которых не существенен их предмет: мир и есть ни что иное, как бесконечное число интерпретаций, отражающих только одну субстанцию – личность интерпретатора или дух того момента, когда интерпретация создается. Идея о том, что «Гамлет» — сосуд, который каждый наполняет лишь самим собой, становится основным теоретическим постулатом. Глава этого направления (если в постмодерне вообще дозволено говорить о главном и второстепенном) – американец Гэри Тейлор, блестящий исследователь, принадлежащий к поколению шестидесятников. Его главная книга, снискавшая широкую популярность и сделавшая его объектом культа среди молодых интеллектуалов США – «Переизобретая Шекспира» (Re-inventing Shakespeare. A Cultural History from the Restoration to the Present), 1989, много раз переиздававшаяся и получившая кучу академических наград, прямо и весело декларирует тот очень американский по духу и лексике тезис, что «Шекспир – это незаполненный чек». Стало быть, тексты Барда сами по себе ровно ничего не значат, и получают смысл только в руках интерпретатора – критика или режиссера. Нет нужды доказывать, как тесно идеи шекспироведов-постмодернистов связаны с современной театральной реальностью.
Другая, более укорененная в культурной традиции тенденция современной шекспирологии, представляет собой часть историцистского направления гуманитарной науки. Ученые этой школы занимаются исследованием творчества и личности Шекспира и его современников во внимательнейшим образом реконструированном историческом контексте. Речь идет не столько о традиционных культурно-исторических и социологических подходах, сколько о попытках представить жизнь и пьесы Шекспира в теснейшей связи с елизаветинской повседневностью с обыденной жизнью того «немотствующего большинства», которое составляло театральную публику шекспировской эпохи, для которой – и только для нее — были написаны великие произведения, смысл которых постепенно открывался человечеству в течение веков. Понять, что видели в пьесах Шекспира его современники – главная цель ученых-шекспироведов историцистского направления. Вероятно, центральная фигура этой школы – Джеймс Шапиро, автор серии книг, первая из которых снискала в Англии и за ее пределами настоящую славу: «1599. Один год в жизни Вильяма Шекспира»(1599. A Year in the Life of William Shakespeare, 2005).
Исследователи, занимающиеся историей восприятия Шекспира современниками, и ученые, изучающие судьбу его творчества в последующих веках (кстати, это не одни постмодернисты) существуют словно в разных, непересекающихся пространствах. Как то, что понимала в «Гамлете» или «Буре» публика «Глобуса», соотносится с многообразными значениями, открывшимися потомкам, в какой степени полнота содержания пьес Шекспира была результатом осознанных художественных концепций автора – решать эти сложнейшие загадки современные исследователи чаще всего отказываются. Полагаю, что на помощь тут должна прийти бахтинская (и гадамеровская ) теория «приращения смысла», позволяющая рассматривать историю интерпретации Шекспира от XVII до XXI веков как процесс постепенного, шаг за шагом, раскрытия, раскапывания смысловых слоев, пробуждения до поры до времени «дремавших» смыслов великих текстов, - как процесс умножения, органического роста смыслов, так, что содержание сегодняшнего взгляда на произведение оказывается адекватным истории его интерпретации.
Одна из наиболее острых проблем, вокруг которых выстраиваются дискуссии в современном шекспироведении – проблема интерпретации Шекспира. Проблема становится особенно важной по причине того, что в последние десятилетия шекспироведы наконец-то обратили внимание на театр, которым еще недавно с филологическим высокомерием пренебрегали. Теперь научная шекспирология все прочнее связывается с театроведением. Фундаментальные труды по истории постановок Шекспира – как в театре его времени, так особенно в последующие времена, вплоть до наших дней – теперь создают крупнейшие ученые, прежде писавшие работы чисто филологического характера (Стенли Уэллс, Д. Бартоломьюс, Дж. Стайан и др.).
В современной шекспирологии соседствуют и состязаются два основных направления. Первое из них, заявившее о себе сравнительно недавно, с энергией и шумом, связано с постмодернистским миросознанием. Обращаясь к сценической истории Шекспира, исследователи этого направления без колебаний отвергают саму возможность существования объективных критериев интерпретации. История Шекспира в театре воспринимается ими как серия сменяющих одна другую и не связанных между собой вольных интерпретаций, для которых не существенен их предмет: мир и есть ни что иное, как бесконечное число интерпретаций, отражающих только одну субстанцию – личность интерпретатора или дух того момента, когда интерпретация создается. Идея о том, что «Гамлет» — сосуд, который каждый наполняет лишь самим собой, становится основным теоретическим постулатом. Глава этого направления (если в постмодерне вообще дозволено говорить о главном и второстепенном) – американец Гэри Тейлор, блестящий исследователь, принадлежащий к поколению шестидесятников. Его главная книга, снискавшая широкую популярность и сделавшая его объектом культа среди молодых интеллектуалов США – «Переизобретая Шекспира» (Re-inventing Shakespeare. A Cultural History from the Restoration to the Present), 1989, много раз переиздававшаяся и получившая кучу академических наград, прямо и весело декларирует тот очень американский по духу и лексике тезис, что «Шекспир – это незаполненный чек». Стало быть, тексты Барда сами по себе ровно ничего не значат, и получают смысл только в руках интерпретатора – критика или режиссера. Нет нужды доказывать, как тесно идеи шекспироведов-постмодернистов связаны с современной театральной реальностью.
Другая, более укорененная в культурной традиции тенденция современной шекспирологии, представляет собой часть историцистского направления гуманитарной науки. Ученые этой школы занимаются исследованием творчества и личности Шекспира и его современников во внимательнейшим образом реконструированном историческом контексте. Речь идет не столько о традиционных культурно-исторических и социологических подходах, сколько о попытках представить жизнь и пьесы Шекспира в теснейшей связи с елизаветинской повседневностью с обыденной жизнью того «немотствующего большинства», которое составляло театральную публику шекспировской эпохи, для которой – и только для нее — были написаны великие произведения, смысл которых постепенно открывался человечеству в течение веков. Понять, что видели в пьесах Шекспира его современники – главная цель ученых-шекспироведов историцистского направления. Вероятно, центральная фигура этой школы – Джеймс Шапиро, автор серии книг, первая из которых снискала в Англии и за ее пределами настоящую славу: «1599. Один год в жизни Вильяма Шекспира»(1599. A Year in the Life of William Shakespeare, 2005).
Исследователи, занимающиеся историей восприятия Шекспира современниками, и ученые, изучающие судьбу его творчества в последующих веках (кстати, это не одни постмодернисты) существуют словно в разных, непересекающихся пространствах. Как то, что понимала в «Гамлете» или «Буре» публика «Глобуса», соотносится с многообразными значениями, открывшимися потомкам, в какой степени полнота содержания пьес Шекспира была результатом осознанных художественных концепций автора – решать эти сложнейшие загадки современные исследователи чаще всего отказываются. Полагаю, что на помощь тут должна прийти бахтинская (и гадамеровская ) теория «приращения смысла», позволяющая рассматривать историю интерпретации Шекспира от XVII до XXI веков как процесс постепенного, шаг за шагом, раскрытия, раскапывания смысловых слоев, пробуждения до поры до времени «дремавших» смыслов великих текстов, - как процесс умножения, органического роста смыслов, так, что содержание сегодняшнего взгляда на произведение оказывается адекватным истории его интерпретации.

