Методы
Гвоздев и Мейерхольд: к проблеме взаимовлияния режиссуры и театроведения
Владислав Станкевичус
Вопрос о влиянии режиссера Всеволода Мейерхольда на методологию театроведа Алексея Гвоздева требует большого количества источников. Неизвестно даже, в каком году они познакомились. Однако влияние очевидно: в какой-то мере это Мейерхольд спровоцировал Гвоздева заняться театром.
Мейерхольд подсказал Гвоздеву идею о театральных системах. В 1919 году, в Школе актерского мастерства он прочел лекцию "О походном театре", в которой дал короткий анализ истории смены театральных форм: "За последнее время реформа театра шла в сторону освобождения театрального искусства из пут театральных условностей, какие были, например, в те времена, когда театр перешел в так называемую театральную коробку. [...] Реформа театральная шла именно в том направлении, чтобы эту коробку заменить чем-то другим, когда стали вспоминать, что прежний театр не был таким". "…Древнегреческий театр был так устроен, что не производил впечатления коробки. Обыкновенно это была площадка, причем купол небесный образовывал покрышку... Затем театр испанский устраивался таким образом, что просто ставили две-три бочки, на них набрасывали доски и затем на этих досках располагались актеры или просто вывозили на площадь телегу и на этой телеге шло действие" И далее: "Есть большая разница между театрами, которые устраивались на открытом воздухе, и тем театром, который устраивается в этой коробке" [Мейерхольд В. Э. [О ПОХОДНОМ ТЕАТРЕ]. Лекция в Школе актерского мастерства. 6 марта 1919 года // Творческое наследие Мейерхольда. М.: ВТО, 1978. С. 35]. По сути, Мейерхольд в этой лекции предвосхищает позднейшие выкладки Гвоздева.
Мейерхольд подсказал Гвоздеву идею о театральных системах. В 1919 году, в Школе актерского мастерства он прочел лекцию "О походном театре", в которой дал короткий анализ истории смены театральных форм: "За последнее время реформа театра шла в сторону освобождения театрального искусства из пут театральных условностей, какие были, например, в те времена, когда театр перешел в так называемую театральную коробку. [...] Реформа театральная шла именно в том направлении, чтобы эту коробку заменить чем-то другим, когда стали вспоминать, что прежний театр не был таким". "…Древнегреческий театр был так устроен, что не производил впечатления коробки. Обыкновенно это была площадка, причем купол небесный образовывал покрышку... Затем театр испанский устраивался таким образом, что просто ставили две-три бочки, на них набрасывали доски и затем на этих досках располагались актеры или просто вывозили на площадь телегу и на этой телеге шло действие" И далее: "Есть большая разница между театрами, которые устраивались на открытом воздухе, и тем театром, который устраивается в этой коробке" [Мейерхольд В. Э. [О ПОХОДНОМ ТЕАТРЕ]. Лекция в Школе актерского мастерства. 6 марта 1919 года // Творческое наследие Мейерхольда. М.: ВТО, 1978. С. 35]. По сути, Мейерхольд в этой лекции предвосхищает позднейшие выкладки Гвоздева.
Речь идет о его рецензии [См.: Гвоздев А. А. Любовь к трем апельсинам: (Гоцци в русской переделке) // Речь. 1914. 3 (16) марта. С. 3] на дивертисмент "Любовь к трем апельсинам" [См.: Вогак К. А., Мейерхольд В. Э., Соловьев В. Н. Любовь к трем апельсинам // Любовь к трем апельсинам. 1914. Кн. 1. С. 18–48], первой работе Гвоздева, связанной с театром. Гвоздев выступил с отчаянной критикой дивертисмента. В ответ авторы (Мейерхольд, Вогак и Соловьев) призвали Гвоздева обратить внимание не на литературный текст, а на его сценический состав: "Вы совершенно игнорируете специфически-театральные эстетические задачи, которые, на наш взгляд, являются самой ценной частью как данного сценария, так и вообще fiabe drammatiche" [Вогак К. А., Мейерхольд В. Э., Соловьев В. Н. Открытое письмо авторов дивертисмента «Любовь к трем апельсинам» А. А. Гвоздеву // Любовь к трем апельсинам. 1914. Кн. 4–5. С. 87].
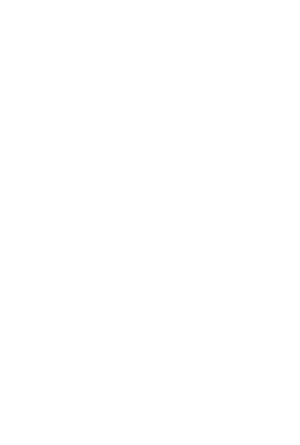
А.А. Гвоздев
Предлагая Гвоздеву взглянуть на дивертисмент с позиций современного театра, авторы дивертисмента считали закономерным "сознательно устранить полемическую сатиру Гоцци на синьора Гольдони и аббата Кьяри просто потому, что у Гоцци технические приемы композиции сценариев гораздо важнее их преходящего боевого значения" [Там же].
Спор этот вылился в долгую дискуссию о существе творчества Гоцци, здесь интересен тот факт, что уже осенью 1916 года на заседании Неофилологического общества Гвоздев прочел этюд "Сказочный театр Карло Гоцци и комическая опера Лесажа", где переход на сторону оппонентов был очевиден. Теперь объектом исследования молодого ученого стала не литература в театре, а театральные формы, породившие и комическую оперу Лесажа, и фьябы Гоцци. Гвоздев прослеживает возникновение и развитие балаганно-ярмарочных жанров французского театра: ревю, водевиля, пьесы-монолога и других, по существу, занимаясь исследованием театральных эпох, на изучении которых был сосредоточен журнал "Любовь к трем апельсинам".
Первые два десятилетия XX века были не только первыми годами режиссерского театра в России, но и временем его самоосмысления. Режиссер хотел знать – что такое театр. В период бурных дискуссий, в которых участвовали все, от символистов до социалистов, от приверженцев методологии МХТ до апологетов условного театра (а позднее подключилось и второе поколение режиссуры, со своими идеями синтеза искусств, театрализации театра) были рождены самые разные концепции театра. В них по-разному истолковывались основополагающие элементы театра: роль, актер, зритель, режиссер, сценография, но так или иначе, все они стремились понять, что такое театр.
Спор этот вылился в долгую дискуссию о существе творчества Гоцци, здесь интересен тот факт, что уже осенью 1916 года на заседании Неофилологического общества Гвоздев прочел этюд "Сказочный театр Карло Гоцци и комическая опера Лесажа", где переход на сторону оппонентов был очевиден. Теперь объектом исследования молодого ученого стала не литература в театре, а театральные формы, породившие и комическую оперу Лесажа, и фьябы Гоцци. Гвоздев прослеживает возникновение и развитие балаганно-ярмарочных жанров французского театра: ревю, водевиля, пьесы-монолога и других, по существу, занимаясь исследованием театральных эпох, на изучении которых был сосредоточен журнал "Любовь к трем апельсинам".
Первые два десятилетия XX века были не только первыми годами режиссерского театра в России, но и временем его самоосмысления. Режиссер хотел знать – что такое театр. В период бурных дискуссий, в которых участвовали все, от символистов до социалистов, от приверженцев методологии МХТ до апологетов условного театра (а позднее подключилось и второе поколение режиссуры, со своими идеями синтеза искусств, театрализации театра) были рождены самые разные концепции театра. В них по-разному истолковывались основополагающие элементы театра: роль, актер, зритель, режиссер, сценография, но так или иначе, все они стремились понять, что такое театр.
Все это не могло не повлиять на группу молодых театроведов, лидером которых стал А. А. Гвоздев, бывший "не только известным театральным критиком, но крупным ученым, знатоком западноевропейской литературы и театра средних веков, эпохи Возрождения и нового времени" [Шнейдерман И. И. Алексей Александрович Гвоздев // Гвоздев А. А. Театральная критика. С. 3]. В первый состав театроведческой группы (Отделение Истории Театра в РИИИ основано в 1920 году) вошли: С. Э. Радлов, С. К. Боянус, Д. К. Петров, Я. Н. Блох, А. Я. Левинсон и В. Н. Соловьев [См. об этом: Краткий отчет о деятельности Российского Института Истории Искусств // Задачи и методы изучения искусств. Пг.: Academia, 1924. С. 214].
Создание ОИТ связано с успехами формальной школы, о чем прямо говорится в отчете о деятельности РИИИ: "Образование при Институте новых Отделений вытекало из ясно осознанного в широких кругах научных работников, стоявших частью еще вне Института, единства морфологического формального метода, применяемого в равной мере как к изучению форм сценического воплощения, так и к изучению форм пластических и музыкальных" [Краткий отчет о деятельности Российского Института Истории Искусств // Задачи и методы изучения искусств. С. 214].
Режиссура, как творческая методология создания новой художественной целостности спектакля показала театру из чего он сделан. Речь идет не о том, что до режиссера спектакль был как лоскутное одеяло, в котором с мира – по нитке: декорации, актеры, музыка, свет. Дело в том, что режиссер привнес в театр единство формы. Оказалось, что актеры должны быть одной школы, работа художника – определенного изобразительного направления; драматургия, музыка, свет – все должно быть эстетически соподчинено единому художественному впечатлению, оказываемому на зрителя. Режиссура как бы занялась решением театроведческих задач – определением объекта, субъекта, первоэлементов, их моделей, структурой. Понятное дело, что все это добывалось опытным путем и не было узким смыслом творчества ни Станиславского, ни Мейерхольда.
Создание ОИТ связано с успехами формальной школы, о чем прямо говорится в отчете о деятельности РИИИ: "Образование при Институте новых Отделений вытекало из ясно осознанного в широких кругах научных работников, стоявших частью еще вне Института, единства морфологического формального метода, применяемого в равной мере как к изучению форм сценического воплощения, так и к изучению форм пластических и музыкальных" [Краткий отчет о деятельности Российского Института Истории Искусств // Задачи и методы изучения искусств. С. 214].
Режиссура, как творческая методология создания новой художественной целостности спектакля показала театру из чего он сделан. Речь идет не о том, что до режиссера спектакль был как лоскутное одеяло, в котором с мира – по нитке: декорации, актеры, музыка, свет. Дело в том, что режиссер привнес в театр единство формы. Оказалось, что актеры должны быть одной школы, работа художника – определенного изобразительного направления; драматургия, музыка, свет – все должно быть эстетически соподчинено единому художественному впечатлению, оказываемому на зрителя. Режиссура как бы занялась решением театроведческих задач – определением объекта, субъекта, первоэлементов, их моделей, структурой. Понятное дело, что все это добывалось опытным путем и не было узким смыслом творчества ни Станиславского, ни Мейерхольда.
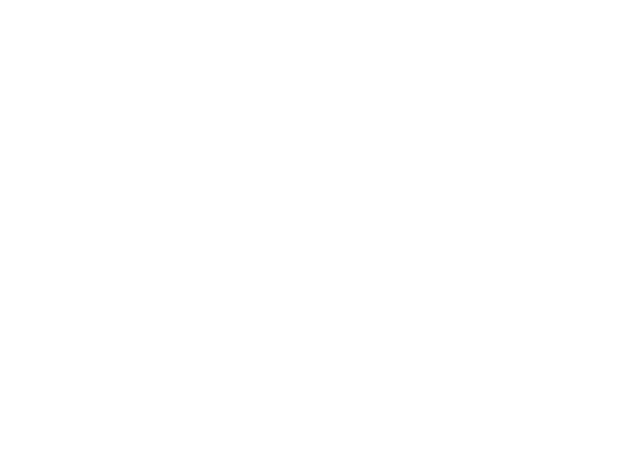
Дружеский шарж на В.Э. Мейерхольда "Мейерхольд против мейерхольдовщины"
Художник - Н. Радлов
Художник - Н. Радлов
Можно найти вполне конкретные взаимовлияния между режиссурой и театроведением. И здесь наиболее плодотворной оказывается тема влияния режиссерской методологии Мейерхольда и теоретических изысканий М. Германа на школу А. А. Гвоздева.
Методология ленинградской школы подпитывалась не только, но и не столько от формализма, сколько от немецкого театроведения (М. Герман) [См.: Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 81-123]. Следуя за ним, А. А. Гвоздев разрабатывал не теоретические и исторические проблемы, принимал активное участие в современном театральном процессе. Становление театроведения шло параллельно по двум направлениям: история и современность.
Наиболее яркими работами, в которых был проявлен театроведческий метод в критике, стали статьи Гвоздева о спектаклях Мейерхольда. "Ревизия «Ревизора»", "Иль-Ба-Зай", "«Учитель Бубус» Мейерхольда" – тексты, без которых научное изучение творчества Мастера невозможно. Гвоздевские историко-методологические работы: "Из истории театра и драмы" (1923) "Итоги и задачи научной истории театра" (1924), "О смене театральных систем" (1926) – сформировали методы анализа истории театра.
Методология ленинградской школы подпитывалась не только, но и не столько от формализма, сколько от немецкого театроведения (М. Герман) [См.: Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 81-123]. Следуя за ним, А. А. Гвоздев разрабатывал не теоретические и исторические проблемы, принимал активное участие в современном театральном процессе. Становление театроведения шло параллельно по двум направлениям: история и современность.
Наиболее яркими работами, в которых был проявлен театроведческий метод в критике, стали статьи Гвоздева о спектаклях Мейерхольда. "Ревизия «Ревизора»", "Иль-Ба-Зай", "«Учитель Бубус» Мейерхольда" – тексты, без которых научное изучение творчества Мастера невозможно. Гвоздевские историко-методологические работы: "Из истории театра и драмы" (1923) "Итоги и задачи научной истории театра" (1924), "О смене театральных систем" (1926) – сформировали методы анализа истории театра.
Короткие временные промежутки между работами Гвоздева показывают интенсивность развития научной мысли о театре. В первом сборнике статей Гвоздев дает наметки будущих капитальных работ. В статье "Германская наука о театре (К методологии истории театра)" автор занимается анализом работ М. Германа и других ученых, вслед за ними выдвигая идею о независимости театра от литературы и подчеркивая коренную обособленность театрального представления. Тезис М. Германа о том, что "Театр есть искусство, располагающееся в пространстве" [Гвоздев А. А. Германская наука о театре: К методологии истории театра // Из истории театра и драмы. СПб., 1923. С. 5] Гвоздев, позднее, в работе "Итоги и задачи…", разовьет в метод «топографической проекции» (так же разрабатываемый М. Германом и А. Кёстером).
Но прежде, чем говорить о методе, необходимо разобраться с объектом театроведения. Для этого Гвоздев потребовал "отказаться от традиционного отождествления театра с драмой" [Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 84]. Необходимо было отказаться от "узко филологической критики", которая как раз и занималась указанным отождествлением. Было необходимо "остро почувствовать исторические судьбы театра в тех эпохах, когда драма не занимала еще первенствующего положения" [Там же. С. 85]. Этим обуславливается глубокий интерес ученого к мистерии, la commedia dell'arte и др…
Но прежде, чем говорить о методе, необходимо разобраться с объектом театроведения. Для этого Гвоздев потребовал "отказаться от традиционного отождествления театра с драмой" [Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 84]. Необходимо было отказаться от "узко филологической критики", которая как раз и занималась указанным отождествлением. Было необходимо "остро почувствовать исторические судьбы театра в тех эпохах, когда драма не занимала еще первенствующего положения" [Там же. С. 85]. Этим обуславливается глубокий интерес ученого к мистерии, la commedia dell'arte и др…
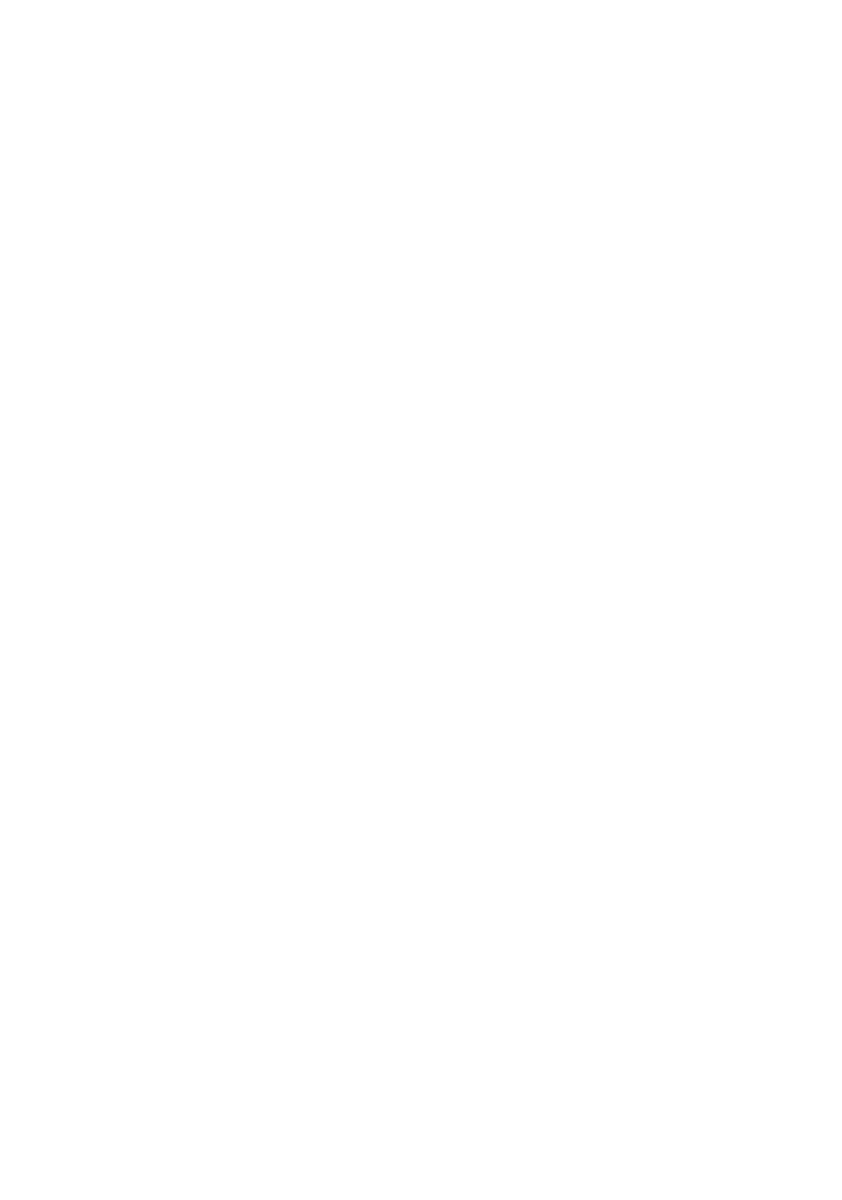
М. Герман
Гвоздев вскрывает "истинный объект его [театроведения – В.С.] исследования – театр как таковой" [Там же. 85]. Театр же, естественно воплощается в конкретных спектаклях, поэтому, "ближайшей целью научной работы становится реконструкция спектакля, или в иной формулировке – воссоздание объекта исследования" [Там же. С. 93].
И здесь автор приходит к определению метода реконструкции – "топографической проекции". "На сценическую площадку, форма и размеры которой берутся сперва гипотетически, исходя из скудных документальных данных, последовательно проецируется содержание каждой сценической ремарки пьесы, иными словами, делается попытка разместить в определенном пространстве основные формы актерского движения, бутафории и декораций. Все новые данные сверяются друг с другом, взаимно контролируются, возникающие противоречия устраняются путем исправления первичной гипотетичной формы сценической площадки, которая и выверяется, наконец, окончательно путем обсуждения многообразных конъюнктур. Исследование продвигается вперед только по мере установления прочной, неоспоримой базы — именно топографии сцены" [Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 94].
Из топографии сцены вырастают вспомогательные методы: сравнительный, иконографический, и т.д., которые помогают вскрыть специфику сценического костюма, структуру актерской игры, характер мизансцен и что не менее важно – специфику драматургии, используемой в этом типе театра. Гвоздев, как и формалисты в литературе, ищет специфичность театрального предмета и объекта.
В 1926 году Гвоздев ввел понятие "театральной системы", что расширило первоначальное определение специфики театра и послужило началом построения истории театра.
"Под системой театра для наших целей достаточно подразумевать намеченное нами соотношение между формой сценической площадки, составом зрителей, структурой актерской игры и характером обслуживающей актера драматургии" [Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре: Временник Отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств: Сборник статей. Л., 1926. C. 9].
И здесь автор приходит к определению метода реконструкции – "топографической проекции". "На сценическую площадку, форма и размеры которой берутся сперва гипотетически, исходя из скудных документальных данных, последовательно проецируется содержание каждой сценической ремарки пьесы, иными словами, делается попытка разместить в определенном пространстве основные формы актерского движения, бутафории и декораций. Все новые данные сверяются друг с другом, взаимно контролируются, возникающие противоречия устраняются путем исправления первичной гипотетичной формы сценической площадки, которая и выверяется, наконец, окончательно путем обсуждения многообразных конъюнктур. Исследование продвигается вперед только по мере установления прочной, неоспоримой базы — именно топографии сцены" [Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 94].
Из топографии сцены вырастают вспомогательные методы: сравнительный, иконографический, и т.д., которые помогают вскрыть специфику сценического костюма, структуру актерской игры, характер мизансцен и что не менее важно – специфику драматургии, используемой в этом типе театра. Гвоздев, как и формалисты в литературе, ищет специфичность театрального предмета и объекта.
В 1926 году Гвоздев ввел понятие "театральной системы", что расширило первоначальное определение специфики театра и послужило началом построения истории театра.
"Под системой театра для наших целей достаточно подразумевать намеченное нами соотношение между формой сценической площадки, составом зрителей, структурой актерской игры и характером обслуживающей актера драматургии" [Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре: Временник Отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств: Сборник статей. Л., 1926. C. 9].
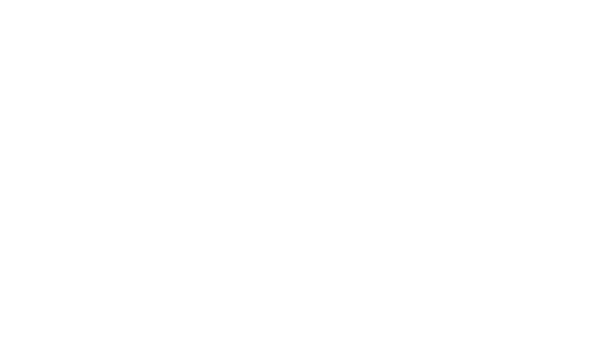
В.Э. Мейрехольд с группой сотрудников и учеников Студии на Бородинской, 1915 г.
История театра понимается ученым как борьба двух систем: ярмарочных подмостков (театр площадной) и сцены-коробки (театр буржуазный), которые определяли состав зрителей (крестьяне, рабочие или буржуа), характер и систему приемов актерской игры ("В одном случае, при игре на сцене-коробке, осветитель… создаст… иллюзию ночи (помимо и независимо от индивидуального умения данного актера)… В другом случае, при игре на ярмарочных подмостках, все задание создать «сцену ночи» целиком возлагается на актера" [Гвоздев А. А. О смене театральных систем // Там же. С 8-9]). И что не менее важно – литература в театре у Гвоздева обретает "обслуживающую" роль, автор доказывает зависимость форм драматургии от типа сцены и актерской игры, то есть от системы условностей, другими словами – от системы приемов. Для этого Гвоздеву необходим был анализ специфических элементов конкретного спектакля: подмостков, актерской игры, зрителя и драматургии.
В определении театральной системы Гвоздев пользовался примером, придуманным еще В. Н. Соловьевым, соратником Мейерхольда по Студии на Бородинской. В 1914 году, на лекциях по истории la commedia dell'arte он рассказывал студийцам о схеме "сцены ночи" в импровизированных итальянских сценариях. "Эта схема в том или ином виде служит канвой для дальнейшего развития действия в большинстве известных мне сценариев. Сущность ее, имеющая много вариантов, сводится приблизительно к следующему. Существуют два старика (Доктор и Панталон). У них есть две дочери (Диана, Аурелия, Изабелла, Клариче, Розаура… etc). Двое молодых людей (Одоаро, Сильвий… etc) любят их и сватаются за них. Старики им отказывают, надеясь выдать своих дочерей замуж за более достойных и более обеспеченных женихов. Очень часто таким желательным женихом оказывается капитан из Неаполя, пройдоха и тщеславный солдат, ведущий свое происхождение от "хвастливого воина" Плавта. Молодые люди в отчаянии, но к ним на помощь обыкновенно приходят их слуги вместе со Смеральдиной, которые, всячески дурача стариков и их ставленников — женихов, устраивают счастливое соединение сердец молодых и нежных любовников. Основная схема часто усложняется параллельной интригой любви, разыгрываемой обыкновенно тремя масками слуг: Смеральдиной, Бригеллом и Арлекином и кончающейся в большинстве случаев в пользу последнего. Благополучный исход, всегда имеющийся налицо в импровизованной комедии, так определяется текстом сценария: «и тут заканчивается комедия двойным или тройным бракосочетанием»" [Там же. С. 34–35].
Изложенный сюжет сцены ночи диктует, по Соловьеву, геометрию движений масок по сцене, основанную на смене четного и нечетного числа персонажей ("сущность геометрического рисунка в сценариях commedia dell'arte основывается на параллелизме и на перемещающемся сочетании четного и нечетного числа действующих лиц" [Соловьев В. Н. К истории сценической техники commedia dell'arte // Любовь к трем апельсинам. 1914. Кн. 2. С. 38.]); сценографию и бутафорию (два дома стариков, лестницы, розы), и главное — состав масок — два старика, два любовника, две девушки, двое слуг и Смеральдина с Капитаном плюс еще одна — две пары влюбленных или слуг по желанию, которые в свою очередь определяют характер взаимодействия между собой и отбор сценических средств (фокусов, лацци, речей).
Характер сцены ночи, считал Соловьев, позволяет определить, что основное действие в ней было связано со слугами, а не со стариками и любовниками, в действенном плане более пассивными ("актерам, исполнявшим эти роли, представлялась возможность показать большие коллекции носовых платков" [Там же]). В реконструкции "сцены ночи" Соловьев ориентировался на пьесы театра итальянских эрудитов (Л. Ариосто, Н. Макиавелли, Б. Довици).
Благодаря этому А. А. Гвоздев, на новом уровне разрабатывавший проблемы сценической площадки, в 1926 году, в статье "О смене театральных систем", сформулировал идею смены театральных систем как смены театральных площадок — от "ярмарочных подмостков" к итальянской сцене-коробке и от нее, с учетом "ярмарочных подмостков", к конструктивистской установке [См.: Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре. Вып. I. С. 7].
Форма сценической площадки диктует и состав зрителя. В театре итальянского типа публика преимущественно аристократическая, готовая заплатить высокую цену за театральную иллюзию. В площадном театре зрителями становятся участники ярмарки или рынка, которые сами выбирают, хвалить или освистать спектакль.
Зависимость актерской игры от устройства сцены еще интереснее. В пример приводится "сцена ночи", о которой писал В. Н. Соловьев. "В одном случае, – писал Гвоздев, – при игре на сцене-коробке, осветитель … создаст … иллюзию ночи (помимо и независимо от индивидуального умения данного актера). … В другом случае, при игре на ярмарочных подмостках, все задание создать «сцену ночи» целиком возлагается на актера" [Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре. Вып. I. С 8–9].
В определении театральной системы Гвоздев пользовался примером, придуманным еще В. Н. Соловьевым, соратником Мейерхольда по Студии на Бородинской. В 1914 году, на лекциях по истории la commedia dell'arte он рассказывал студийцам о схеме "сцены ночи" в импровизированных итальянских сценариях. "Эта схема в том или ином виде служит канвой для дальнейшего развития действия в большинстве известных мне сценариев. Сущность ее, имеющая много вариантов, сводится приблизительно к следующему. Существуют два старика (Доктор и Панталон). У них есть две дочери (Диана, Аурелия, Изабелла, Клариче, Розаура… etc). Двое молодых людей (Одоаро, Сильвий… etc) любят их и сватаются за них. Старики им отказывают, надеясь выдать своих дочерей замуж за более достойных и более обеспеченных женихов. Очень часто таким желательным женихом оказывается капитан из Неаполя, пройдоха и тщеславный солдат, ведущий свое происхождение от "хвастливого воина" Плавта. Молодые люди в отчаянии, но к ним на помощь обыкновенно приходят их слуги вместе со Смеральдиной, которые, всячески дурача стариков и их ставленников — женихов, устраивают счастливое соединение сердец молодых и нежных любовников. Основная схема часто усложняется параллельной интригой любви, разыгрываемой обыкновенно тремя масками слуг: Смеральдиной, Бригеллом и Арлекином и кончающейся в большинстве случаев в пользу последнего. Благополучный исход, всегда имеющийся налицо в импровизованной комедии, так определяется текстом сценария: «и тут заканчивается комедия двойным или тройным бракосочетанием»" [Там же. С. 34–35].
Изложенный сюжет сцены ночи диктует, по Соловьеву, геометрию движений масок по сцене, основанную на смене четного и нечетного числа персонажей ("сущность геометрического рисунка в сценариях commedia dell'arte основывается на параллелизме и на перемещающемся сочетании четного и нечетного числа действующих лиц" [Соловьев В. Н. К истории сценической техники commedia dell'arte // Любовь к трем апельсинам. 1914. Кн. 2. С. 38.]); сценографию и бутафорию (два дома стариков, лестницы, розы), и главное — состав масок — два старика, два любовника, две девушки, двое слуг и Смеральдина с Капитаном плюс еще одна — две пары влюбленных или слуг по желанию, которые в свою очередь определяют характер взаимодействия между собой и отбор сценических средств (фокусов, лацци, речей).
Характер сцены ночи, считал Соловьев, позволяет определить, что основное действие в ней было связано со слугами, а не со стариками и любовниками, в действенном плане более пассивными ("актерам, исполнявшим эти роли, представлялась возможность показать большие коллекции носовых платков" [Там же]). В реконструкции "сцены ночи" Соловьев ориентировался на пьесы театра итальянских эрудитов (Л. Ариосто, Н. Макиавелли, Б. Довици).
Благодаря этому А. А. Гвоздев, на новом уровне разрабатывавший проблемы сценической площадки, в 1926 году, в статье "О смене театральных систем", сформулировал идею смены театральных систем как смены театральных площадок — от "ярмарочных подмостков" к итальянской сцене-коробке и от нее, с учетом "ярмарочных подмостков", к конструктивистской установке [См.: Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре. Вып. I. С. 7].
Форма сценической площадки диктует и состав зрителя. В театре итальянского типа публика преимущественно аристократическая, готовая заплатить высокую цену за театральную иллюзию. В площадном театре зрителями становятся участники ярмарки или рынка, которые сами выбирают, хвалить или освистать спектакль.
Зависимость актерской игры от устройства сцены еще интереснее. В пример приводится "сцена ночи", о которой писал В. Н. Соловьев. "В одном случае, – писал Гвоздев, – при игре на сцене-коробке, осветитель … создаст … иллюзию ночи (помимо и независимо от индивидуального умения данного актера). … В другом случае, при игре на ярмарочных подмостках, все задание создать «сцену ночи» целиком возлагается на актера" [Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре. Вып. I. С 8–9].
Гвоздевская школа театроведения сложилась под воздействием работ Макса Германа и открытий режиссерского театра. Спектакль как предмет исторической реконструкции и режиссерский спектакль как предмет современного критического осмысления, стал единицей театрального измерения в исторической смене театральных систем.
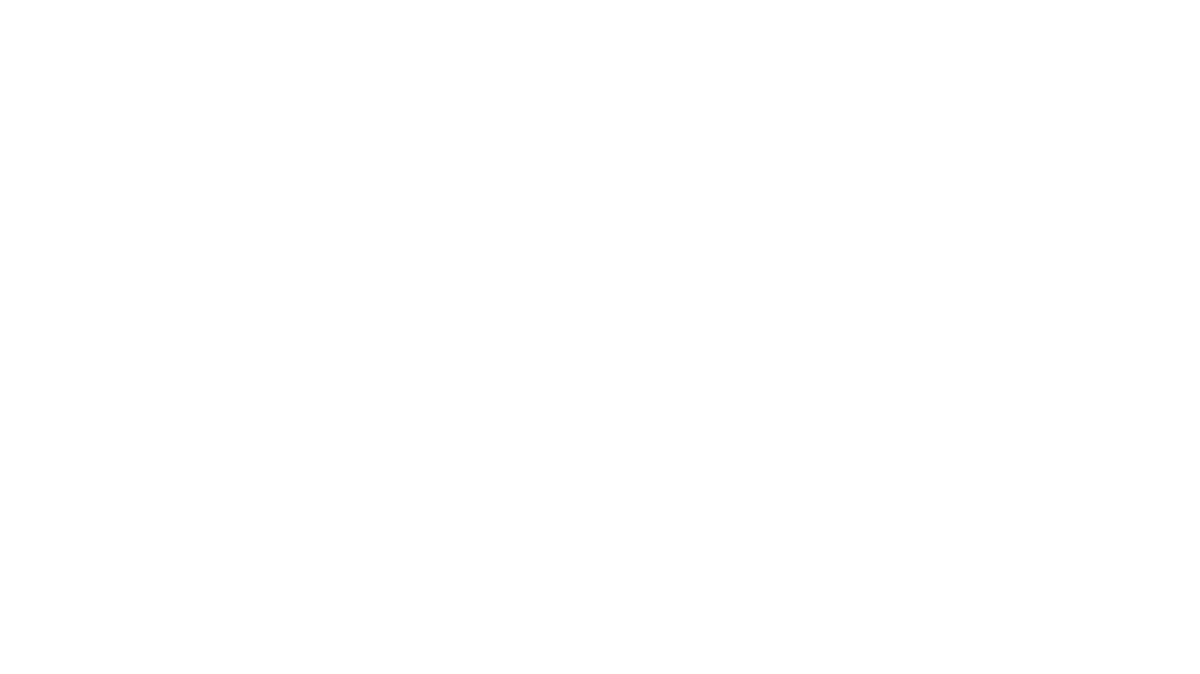
В.Э. Мейерхольд
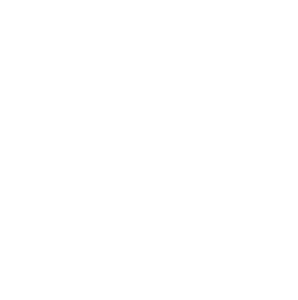
Владислав Станкевичус

