Общие вопросы
Перформативный переворот в современном российском театре
Кристина Матвиенко
В теории и практике зарубежного театра перформативный поворот произошел в 1950-х – 1960-х годах. Само понятие «перформативный» выдвинуто Джоном Л. Остином в лекции «Как производить действия при помощи слов» (Гарвард, 1955). Современные теоретики перформанса, такие, как Роузли Голдберг и Клэр Бишоп, также «напрямую отсылают к раннесоветскому театральному авангарду как к протоперформативному искусству, переоткрытие которого совершил западный неоавангард 1960-х годов» [1, с. 193]. Действительно, и в книге Голдберг «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней» (2017), и в книге Бишоп «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства» (2018) хроника перформативного и партиципаторного искусства берет начало в футуристических практиках и «театральных новшествах, появившихся после большевистской революции» [2, с. 12]. Рождению русского перформанса, считает Голдберг, способствовали два обстоятельства: реакция художников против старого порядка, как в искусстве, так и в политике, и влияние итальянского футуризма, которые русские переосмыслили на свой лад [3, с. 39]. Спустя век после футуризма в российском театре наступает перформативный поворот.
Переоткрытие идей авангарда, произошедшее в 1960-е годы в западном искусстве, было ответом «на общий кризис устоявшихся моделей эстетической репрезентации, вызванных нарастающими процессами политической, социальной, этнической, гендерной, религиозной эмансипации» [1, с. 193]. В не поддающемся фиксации и воспроизведению перформансе художники увидели возможность воспротивиться коммерциализации искусства. Развитие перформанса «как самостоятельного средства художественного выражения» связано с упором на производство идей, а не продуктов [См.: 3, с. 8-9].
Само понятие «перформативность» определяется у Фишер-Лихте через ряд признаков (от типа коммуникации между зрителем и сценой до специфического, телесного присутствия актера/перформера) и объемлет собой послевоенные десятилетия; при этом признаки явления она находит и в раннем XX веке. Российский перформативный поворот 2010-х – 2020-х обращен, однако, не в сторону авангардистских жестов и не в сторону постмодернистской игры с провокацией, но в сторону Джона Кейджа и открытий 1960-х, переосмысляющих оптику художника и его взаимодействия с реальностью (как с политикой в целом, так и с отдельным зрителем).
Зонтичное понятие performance art включает в себя все разновидности live art – хэппенинг, акционизм, галерейные эксперименты, социальный театр, иммерсивные практики, сайт-специфик. То есть те формы «зрелищных искусств», которые ответили на кризис репрезентации попытками отождествить сцену театра со сценой жизни.
Переоткрытие идей авангарда, произошедшее в 1960-е годы в западном искусстве, было ответом «на общий кризис устоявшихся моделей эстетической репрезентации, вызванных нарастающими процессами политической, социальной, этнической, гендерной, религиозной эмансипации» [1, с. 193]. В не поддающемся фиксации и воспроизведению перформансе художники увидели возможность воспротивиться коммерциализации искусства. Развитие перформанса «как самостоятельного средства художественного выражения» связано с упором на производство идей, а не продуктов [См.: 3, с. 8-9].
Само понятие «перформативность» определяется у Фишер-Лихте через ряд признаков (от типа коммуникации между зрителем и сценой до специфического, телесного присутствия актера/перформера) и объемлет собой послевоенные десятилетия; при этом признаки явления она находит и в раннем XX веке. Российский перформативный поворот 2010-х – 2020-х обращен, однако, не в сторону авангардистских жестов и не в сторону постмодернистской игры с провокацией, но в сторону Джона Кейджа и открытий 1960-х, переосмысляющих оптику художника и его взаимодействия с реальностью (как с политикой в целом, так и с отдельным зрителем).
Зонтичное понятие performance art включает в себя все разновидности live art – хэппенинг, акционизм, галерейные эксперименты, социальный театр, иммерсивные практики, сайт-специфик. То есть те формы «зрелищных искусств», которые ответили на кризис репрезентации попытками отождествить сцену театра со сценой жизни.
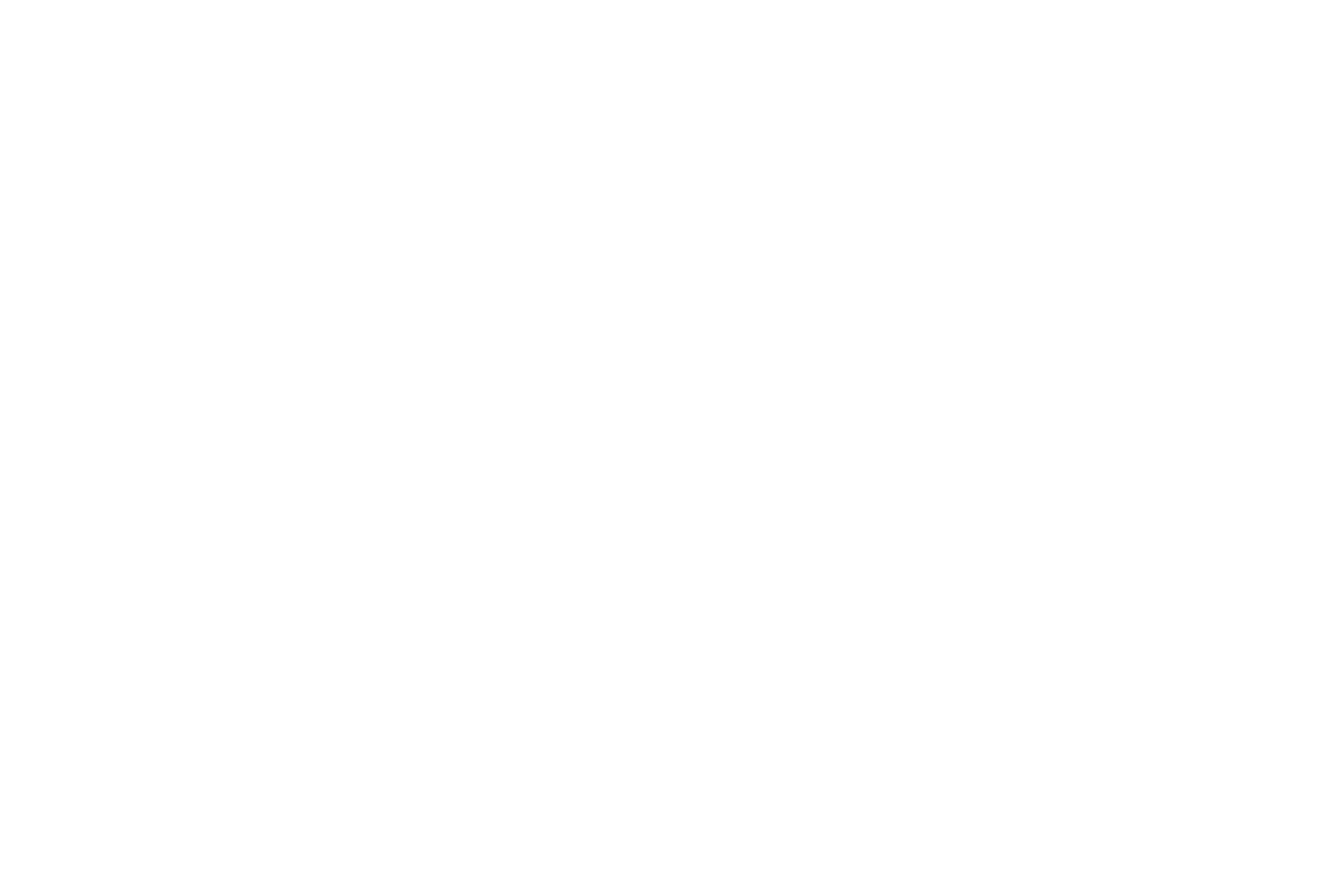
"Хорошо Темперированные грамоты"
театр post
Режиссер - Д. Волкострелов
театр post
Режиссер - Д. Волкострелов
Вдохновленные идеями неоавангарда 1960-х, характеризующегося преодолением границ между различными искусствами, в результате чего обычный театр начинает казаться устаревшим [4, с. 86], российские художники с 2010-х занимаются переоткрытием этого комплекса идей и форматов, заимствуя при этом и «левую» политическую повестку. Отечественный перформативный поворот обращен к западным открытиям, а не к расцвету неофициальной культуры в 1980-е, когда в Петербурге работали Борис Понизовский, АХЕ, Формальный театр Андрея Могучего, DEREVO, Сергей Курехин, а в Москве – Евгений Харитонов, Григорий Залкинд, Борис Юхананов. При этом, в отличие от западных художников, нынешние российские лишены теоретической и образовательной базы: за спиной американцев стояли колледж Блэк Маунтин и нью-йоркские арт-комьюнити, европейцев – Баухауз, «университеты» Йозефа Бойса и других. Во многом идеи европейских (Йозефа Бойса, венских акционистов) и американских художников (Аллан Капроу, Ричард Шехнер, Джон Кейдж) актуализировались в российском театре, благодаря переведенным книгам и ставшей доступной документации. Увлечение попало на благодатную почву – именно в 2010-е появились художники, не институционализированные и не стремящиеся получить работу в репертуарном театре. В целом заимствования можно разделить на формальные эксперименты в области взаимодействия с пространством и временем и политическую повестку, направленную на критику существующего устройства театра, а заодно – и общества.
С помощью перформативных практик художники 1960-х протестовали против определенных моделей театра: перформанс мог быть сделан вне галереи или театра (или рынка) и получить больше внимания публики. Демократизация российского театра, крайне актуальная сегодня, началась в 2000-х, когда в contemporary dance, молодой драматургии и независимых группах, возникших в Екатеринбурге («Коляда-театр»), Комсомольске-на-Амуре («КнАМ»), Кемерово («Ложа»), Тольятти («Голосова, 20), Минске («Свободный театр»), было легитимизировано «любительство». Театр.doc и «новая драма» расширили вход в профессию. Свидетельский театр легитимизировал непрофессионалов на сцене.
С развитием социальных проектов, начатых в 2010 году проектом «Театр + общество» Елены Греминой и Елены Ковальской, нормой становится выход на сцену «горожан», а также – представителей отдельных сегментов общества, в том числе «исключенных». Социальные проекты в театре направлены на решение конкретных проблем, но важно и то, что они делаются на пограничной между театром и перформансом территории, поскольку именно так их эстетическая ценность повышается. Анализируя партиципаторные проекты, Клэр Бишоп предлагает разбираться, как они работают на создание нового социального и художественного опыта. Ключевое понятие здесь – совместность авторства и зрительства [2, с. 70-71]. В социальных проектах российского театра 2010-х – в школьных или работающих с группой «исключенных», – практика совместности порождается за счет специально выработанной драматургии спектакля, в ходе которого происходит перемена ролями или же наложение реального человеческого опыта на актерскую игру.
Социальное встречается с эстетическим внутри проекта Бориса Павловича «Квартира. Разговоры» (2018, фонд Альма Матер, Центр «Антон тут рядом»), в котором люди с РАС (расстройством аутического спектра) работают вместе с профессиональными актерами. В социальном смысле совместное пребывание на территории спектакля аутиста со зрителем, аутиста – с профессиональным актером и так далее означает встречу с «другим»; в театральном – это «опыт деиерархизации разных способов артистического самовыражения» [5]. Но не только: перед нами сложная конструкция взаимозависимостей между непрофессиональным, но одаренным «особенным» зрением человеком, и собственно актерской способностью принять на себя другого и воспроизвести его в публичном пространстве.
С помощью перформативных практик художники 1960-х протестовали против определенных моделей театра: перформанс мог быть сделан вне галереи или театра (или рынка) и получить больше внимания публики. Демократизация российского театра, крайне актуальная сегодня, началась в 2000-х, когда в contemporary dance, молодой драматургии и независимых группах, возникших в Екатеринбурге («Коляда-театр»), Комсомольске-на-Амуре («КнАМ»), Кемерово («Ложа»), Тольятти («Голосова, 20), Минске («Свободный театр»), было легитимизировано «любительство». Театр.doc и «новая драма» расширили вход в профессию. Свидетельский театр легитимизировал непрофессионалов на сцене.
С развитием социальных проектов, начатых в 2010 году проектом «Театр + общество» Елены Греминой и Елены Ковальской, нормой становится выход на сцену «горожан», а также – представителей отдельных сегментов общества, в том числе «исключенных». Социальные проекты в театре направлены на решение конкретных проблем, но важно и то, что они делаются на пограничной между театром и перформансом территории, поскольку именно так их эстетическая ценность повышается. Анализируя партиципаторные проекты, Клэр Бишоп предлагает разбираться, как они работают на создание нового социального и художественного опыта. Ключевое понятие здесь – совместность авторства и зрительства [2, с. 70-71]. В социальных проектах российского театра 2010-х – в школьных или работающих с группой «исключенных», – практика совместности порождается за счет специально выработанной драматургии спектакля, в ходе которого происходит перемена ролями или же наложение реального человеческого опыта на актерскую игру.
Социальное встречается с эстетическим внутри проекта Бориса Павловича «Квартира. Разговоры» (2018, фонд Альма Матер, Центр «Антон тут рядом»), в котором люди с РАС (расстройством аутического спектра) работают вместе с профессиональными актерами. В социальном смысле совместное пребывание на территории спектакля аутиста со зрителем, аутиста – с профессиональным актером и так далее означает встречу с «другим»; в театральном – это «опыт деиерархизации разных способов артистического самовыражения» [5]. Но не только: перед нами сложная конструкция взаимозависимостей между непрофессиональным, но одаренным «особенным» зрением человеком, и собственно актерской способностью принять на себя другого и воспроизвести его в публичном пространстве.
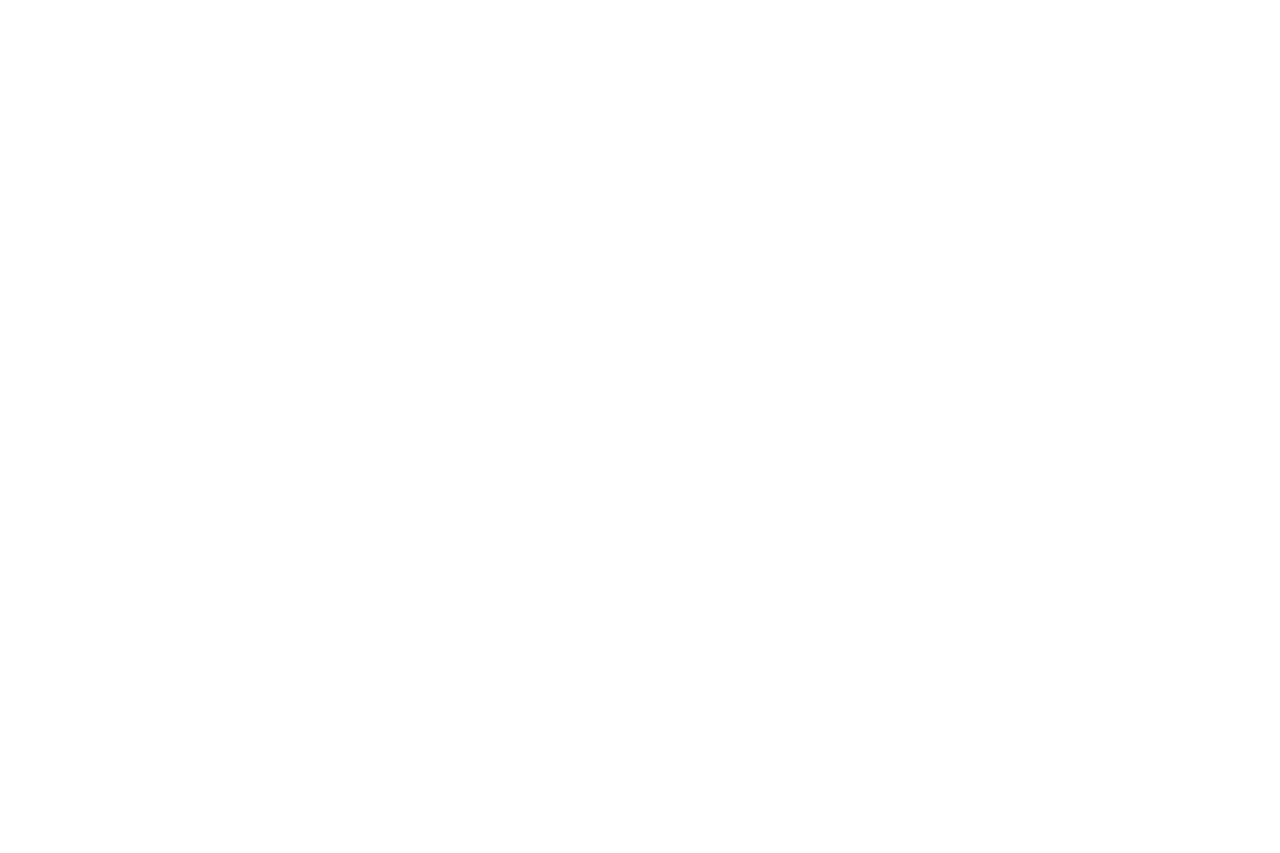
"Разговоры"
пространство "Квартира"
Режиссер - Б. Павлович
пространство "Квартира"
Режиссер - Б. Павлович
Перформативный поворот в России совпал с кризисом доверия молодых людей по отношению к любой власти – не только государственной, но институциональной и патриархальной, которая была заложена в театре прежде и предполагала одностороннюю коммуникацию между Автором и зрителем. Театр в своем новом обличье, то есть порывающий с драматическим и двигающийся к перформативному, оказался в авангарде этих поисков – как низкобюджетное искусство, способное существовать вне «коробки» и вне «фабрики», и связанное, несмотря на дигитализацию (а иногда – благодаря ей), с живым присутствием и реальным жестом.
Кризис доверия к профессиональному объясняется изменившимся социально-политическим контекстом: на место модернистской концепции искусства пришла реляционная эстетика. Художник теперь занимается организацией «интенсивной встречи», созданием интерсубъектных отношений, а искусство становится местом производства особого рода социальности [6, с. 17]. Кажется, что в новейшем времени искусству назначается роль быть инструментом или языком для определенного социального жеста. Но искусство по-прежнему создает художественный опыт, требуя от нас внимания к его концептуальной и аффективной сложности, то есть эстетического анализа, но в его трансформированном виде. Политический аспект реляционного искусства выражается в его потребности создавать альянсы (или микросообщества) в противовес авторитарной и капитализированной власти [См.: 7]. Новые практики в театрально-перформативном искусстве 2010-х невозможно вынуть из социально-политического контекста.
Кейдж изобретал новые способы использования привычных материалов и техник. Эту же идею Хайнер Гёббельс заложил в основу своей педагогической практики. Механизм, который Rimini Protokoll, ученики Гёббельса, применяют к реальности, чтобы произвести манипуляцию со зрительским вниманием, тоже изобретается каждый раз заново. В проектах Rimini Protokoll функцию актеров выполняют «эксперты», то есть люди, являющиеся специалистами в той или иной области. Специальность не равна профессии: ты можешь быть домохозяйкой, девушкой из call-центра, неизлечимо больным человеком или жителем города Воронеж. Это превращает инженерные проекты Rimini Protokoll в социологические слепки времени, где присутствует подлинный человек. Влияние Rimini Protokoll на современный российский театр огромно – и в смысле форматов, и идеологии (смешение театра с социологией), и в инженерных матрицах.
Одними из первых перформативных опытов в новейшем российском театре (можно начать раньше – с андеграунда 1980-1990-х, но мы берем отрезок позже) были спектакли Театра.doc. В «Большой жрачке» (2003) Александра Вартанова, Татьяны Копыловой и Руслана Маликова воспроизводилась абсурдная реальность телевизионного закулисья – без купюр, в полуимпровизационном режиме (часть текста была записана и смонтирована из интервью, а часть порождалась прямо на сцене, поскольку артисты были одновременно режиссерами и донорами). Кульминацией был вынос человека, обмазанного паштетом, которого ставили на пол и предлагали публике облизывать, тем самым создавая ситуацию неопределенности – то ли участвовать, то ли смотреть.
Кризис доверия к профессиональному объясняется изменившимся социально-политическим контекстом: на место модернистской концепции искусства пришла реляционная эстетика. Художник теперь занимается организацией «интенсивной встречи», созданием интерсубъектных отношений, а искусство становится местом производства особого рода социальности [6, с. 17]. Кажется, что в новейшем времени искусству назначается роль быть инструментом или языком для определенного социального жеста. Но искусство по-прежнему создает художественный опыт, требуя от нас внимания к его концептуальной и аффективной сложности, то есть эстетического анализа, но в его трансформированном виде. Политический аспект реляционного искусства выражается в его потребности создавать альянсы (или микросообщества) в противовес авторитарной и капитализированной власти [См.: 7]. Новые практики в театрально-перформативном искусстве 2010-х невозможно вынуть из социально-политического контекста.
Кейдж изобретал новые способы использования привычных материалов и техник. Эту же идею Хайнер Гёббельс заложил в основу своей педагогической практики. Механизм, который Rimini Protokoll, ученики Гёббельса, применяют к реальности, чтобы произвести манипуляцию со зрительским вниманием, тоже изобретается каждый раз заново. В проектах Rimini Protokoll функцию актеров выполняют «эксперты», то есть люди, являющиеся специалистами в той или иной области. Специальность не равна профессии: ты можешь быть домохозяйкой, девушкой из call-центра, неизлечимо больным человеком или жителем города Воронеж. Это превращает инженерные проекты Rimini Protokoll в социологические слепки времени, где присутствует подлинный человек. Влияние Rimini Protokoll на современный российский театр огромно – и в смысле форматов, и идеологии (смешение театра с социологией), и в инженерных матрицах.
Одними из первых перформативных опытов в новейшем российском театре (можно начать раньше – с андеграунда 1980-1990-х, но мы берем отрезок позже) были спектакли Театра.doc. В «Большой жрачке» (2003) Александра Вартанова, Татьяны Копыловой и Руслана Маликова воспроизводилась абсурдная реальность телевизионного закулисья – без купюр, в полуимпровизационном режиме (часть текста была записана и смонтирована из интервью, а часть порождалась прямо на сцене, поскольку артисты были одновременно режиссерами и донорами). Кульминацией был вынос человека, обмазанного паштетом, которого ставили на пол и предлагали публике облизывать, тем самым создавая ситуацию неопределенности – то ли участвовать, то ли смотреть.
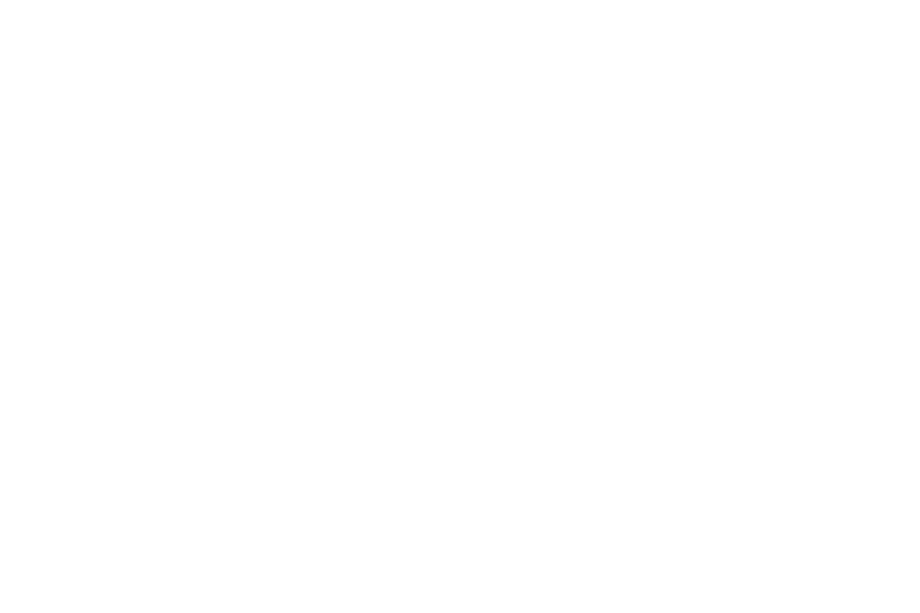
"Неявные воздействия"
Театр. doc
Режиссер - Вс. Лисовский
Театр. doc
Режиссер - Вс. Лисовский
В «Заполярной правде» (2006, Театр.doc) Георга Жено и Ксении Перетрухиной по пьесе, написанной Юрием Клавдиевым на материале интервью с наркозависимыми и ВИЧ-инфицированными жителями Норильска, действие происходило прямо под ногами зрителей: уничтожение сцены заставляло слушать монологи реципиентов о свободе выбора глаза в глаза. В финале зрителям предлагали чай из кружек, которыми пользовались артисты, игравшие ВИЧ-инфицированных. Этим жестом зритель проверялся на толерантность, а спектакль из зоны эстетического выходил в зону этики, предлагая задуматься о границах искусства и жизни.
В перформансе Елены Ковылиной «Театр беспризорной молодежи» (Театр.doc, 2003) на экране демонстрировалась берлинская версия проекта, в которой бездомных играли профессиональные артисты, а в зале – вместе со зрителями сидели беспризорники и комментировали происходящее на экране, указывая на неточность и показывая искусство выуживания кошелька у добровольцев, вызванных на сцену. Перформативный эффект лежал не в эстетической, а в этической сфере: «Елена Ковылина не похожа на прекраснодушную энтузиастку из Армии спасения. <…> Такая девушка вряд ли будет устраивать "Театр беспризорников" для того, чтобы мы всплакнули над судьбой сирых и убогих и подали копеечку. Скорее художница заставляет нас понять, что никакой копеечкой мы не отделаемся. В ее перформансах зритель, вознамерившийся сохранить лицо, прибегнув к готовым стереотипам "правильного" поведения, неизменно оказывается лохом. Но хотя бы видит, как именно его "разводят"» [8]. Подобное предпринял и Всеволод Лисовский в «Пещере» (Центр им. Мейерхольда, 2019), где бездомные вели разговоры о Платоне и лишались тем самым привычного контекста.
В «1.18» Михаила Угарова был эпизод с примеркой актерами физического страдания, которое пришлось испытать Сергею Магнитскому, умершему в Бутырском СИЗО из-за неоказания медицинской помощи. Талгат Баталов и Алексей Жиряков, разыгрывали на себе «памятку» боли при панкреатите: делали упражнение на память физического действия, пользуясь медицинской инструкцией и пытаясь представить, что чувствовал герой в момент приступа. Непредсказуемость публичного эксперимента с собственным телом – свойство хэппенинга, открытого новому переживанию и создающего ситуацию, при которой что-то может случиться здесь и сейчас.
Перформансу свойственно стремление художника утвердить в произведении личное присутствие: «тело художника» превращается в материал для спектакля. О самостоятельности себя как личности пишет Илья Кабаков, вспоминая ранний период работы, 1950-е и начало 1960-х: «<…> вся учеба, и в школе художественной, и в художественном институте, вся как бы была «для них», а не для себя, чтобы «они» были довольны, не выгнали <…>, чтобы все было похоже на то, что «они» требуют. <…> Чтобы было сочетание и «для себя» и «для них» одновременно, такого я не помню ни разу, и от этого не помню никогда удовлетворения от работы и результата <…>. Но зато то, что я стал пробовать и испытывать, потом стало моим собственным личным опытом, безо всяких высоких и любых авторитетов и правил, за что я только сам нес ответственность, не опираясь и не включаясь ни в одно «их» правило, во внешнем мире уже существующее» [9, с. 11-12]. Сегодня молодые российские режиссеры манифестируют отказ вступать в союз с государственными институциями или же игровым образом рефлексируют по поводу не сложившихся отношений с «большими театрами», существующей театральной образовательной системой. «Театр. На вынос» был создан экс-студентами петербургской театральной Академии, отчисленными с режиссерского курса; создатель «Бинарного театра» Василий Березин отмежевывается от альма-матер ГИТИС; Ольга Тараканова, одна из создательниц Locker Room Talk и «Кариеса капитализма», отвергает необходимость профессионального, репрессивного, на ее взгляд, театрального образования. Эта практика отрицания тоже взята из прошлого, но актуальна именно в сегодняшней России, где статус театра как института принято считать высоким, а художника – считать гуру. С элитизмом театра (не буржуазного, а интеллигентского свойства) связано стремление выйти за границы «профессионального».
Фишер-Лихте определяет перформативное как напряжение между телесностью актера и изображаемым им персонажем, иначе говоря – между феноменом присутствия и процессом воплощения. До перформативного поворота театр стоял на устранении напряжения между «феноменальным телом» актера и персонажем, чтобы через «семиотическое тело» донести заложенные в тексте смыслы. В начале XX века эта концепция подверглась критике – объявив театр самостоятельным видом искусства, не ограничивающимся передачей значений, режиссеры (Фишер-Лихте приводит в пример Мейерхольда и Рейнхардта) разработали новую концепцию актерского искусства, сочетающего физическую и творческую деятельность, но сохраняющего идею контроля над телом и его совершенствования [См.: 10, с. 143-148]. С 1960-х начинаются эксперименты, привлекающие внимание к его материальности, но не через контроль, а исходя из двойственного характера тела как плоти и семиотического тела.
В «1.18» Михаила Угарова был эпизод с примеркой актерами физического страдания, которое пришлось испытать Сергею Магнитскому, умершему в Бутырском СИЗО из-за неоказания медицинской помощи. Талгат Баталов и Алексей Жиряков, разыгрывали на себе «памятку» боли при панкреатите: делали упражнение на память физического действия, пользуясь медицинской инструкцией и пытаясь представить, что чувствовал герой в момент приступа. Непредсказуемость публичного эксперимента с собственным телом – свойство хэппенинга, открытого новому переживанию и создающего ситуацию, при которой что-то может случиться здесь и сейчас.
Перформансу свойственно стремление художника утвердить в произведении личное присутствие: «тело художника» превращается в материал для спектакля. О самостоятельности себя как личности пишет Илья Кабаков, вспоминая ранний период работы, 1950-е и начало 1960-х: «<…> вся учеба, и в школе художественной, и в художественном институте, вся как бы была «для них», а не для себя, чтобы «они» были довольны, не выгнали <…>, чтобы все было похоже на то, что «они» требуют. <…> Чтобы было сочетание и «для себя» и «для них» одновременно, такого я не помню ни разу, и от этого не помню никогда удовлетворения от работы и результата <…>. Но зато то, что я стал пробовать и испытывать, потом стало моим собственным личным опытом, безо всяких высоких и любых авторитетов и правил, за что я только сам нес ответственность, не опираясь и не включаясь ни в одно «их» правило, во внешнем мире уже существующее» [9, с. 11-12]. Сегодня молодые российские режиссеры манифестируют отказ вступать в союз с государственными институциями или же игровым образом рефлексируют по поводу не сложившихся отношений с «большими театрами», существующей театральной образовательной системой. «Театр. На вынос» был создан экс-студентами петербургской театральной Академии, отчисленными с режиссерского курса; создатель «Бинарного театра» Василий Березин отмежевывается от альма-матер ГИТИС; Ольга Тараканова, одна из создательниц Locker Room Talk и «Кариеса капитализма», отвергает необходимость профессионального, репрессивного, на ее взгляд, театрального образования. Эта практика отрицания тоже взята из прошлого, но актуальна именно в сегодняшней России, где статус театра как института принято считать высоким, а художника – считать гуру. С элитизмом театра (не буржуазного, а интеллигентского свойства) связано стремление выйти за границы «профессионального».
Фишер-Лихте определяет перформативное как напряжение между телесностью актера и изображаемым им персонажем, иначе говоря – между феноменом присутствия и процессом воплощения. До перформативного поворота театр стоял на устранении напряжения между «феноменальным телом» актера и персонажем, чтобы через «семиотическое тело» донести заложенные в тексте смыслы. В начале XX века эта концепция подверглась критике – объявив театр самостоятельным видом искусства, не ограничивающимся передачей значений, режиссеры (Фишер-Лихте приводит в пример Мейерхольда и Рейнхардта) разработали новую концепцию актерского искусства, сочетающего физическую и творческую деятельность, но сохраняющего идею контроля над телом и его совершенствования [См.: 10, с. 143-148]. С 1960-х начинаются эксперименты, привлекающие внимание к его материальности, но не через контроль, а исходя из двойственного характера тела как плоти и семиотического тела.
"Задержанный"
Pop-up театр
Режиссер - С. Александровский
Pop-up театр
Режиссер - С. Александровский
В случае с драматическим театром перформативного типа мы имеем дело с напряжением между реальным и искусным, высоко ремесленным. Категория персонажа переосмысляется с учетом взаимоотношений между внутренним состоянием персонажа и феноменального тела актера [См.: 10, с. 158]. Не имеет значения, направлен процесс воплощения на создание вымышленного персонажа или нет. В театре post придуманы «упражнения», позволяющие актеру находиться в индивидуальном, человеческом покое, а не в режиме отчетливой презентации психологических качеств персонажа. От перформанса берется присутствие конкретного тела, которое не закрывается ничем, но при этом не интенсифицируется по линии «вживания» в роль, как у Станиславского. Нет тут и критической дистанции между персонажем и актером. «Естественная» игра в «Соседе», где «векторность» утоплена во все время затухающем диалоге двух героев, обустроена специально выработанными правилами. Разница между актерами двух поколений, Игорем и Иваном Николаевыми, проходит по линии перформативности: младший, Иван, демонстрирует способность находиться здесь и сейчас, а не в хорошо разработанном, но все же герметичном мире спектакля. Такой тип спектакля открывает, «возможность нового присутствия актеров-«перформеров» (в них и мутируют обычные актеры)» [4, с. 86]. Леман имеет в виду стирание границы между «телом» актера как человека и порождаемым им персонажем, что можно прочесть как еще один нюанс психологического типа театра, поскольку мы имеем дело не с дистанцией, а со слипанием. И все же черты этого нового отличны от метода вживания за счет возгонки личных чувств и переплавки их в характер персонажа. Актер в процессе перформативного пребывания на сцене делает очевидной двойственность между собой-автором и собой-материалом, а значит – дистанцирован по отношению к самому себе, и мы это видим. Иван Николаев в «Соседе» делает видимым зазор между собой-актером и собой, человеком, который то и дело с удивлением обнаруживает, что притворяется, хотя и очень естественно, персонажем пьесы Пряжко.
Для перформативного сегмента современного театра (а у Фишер-Лихте, как и у Лемана практически весь современный театр это и есть перформативное) характерно, что зрители в реальном времени «предъявляют собственное существование на сцене в качестве политических субъектов» [11] – причем это происходит и в тех случаях, когда речь идет вовсе не об иммерсивном спектакле, а об «обычном», не втягивающем зрителя в представление. Это происходит потому, что в рамках такого рода спектакля (в качестве примера Исраилова приводит «Квартиру» Бориса Павловича) меняются привычные нам социальные роли, благодаря чему мы чувствуем себя неожиданно естественно. Естественно – значит не так, как обычно, то есть как мы привыкли в соответствии с принятыми на себя «ролями».
Ги Дебор утверждал, что единственным увлекательным занятием являются «отрывочные поиски нового образа жизни» [12, с. 47]. Через изучение законов и конкретных воздействий географической среды на поведение и «ситуации», можно подорвать идею капиталистической упорядоченности, навязывающую человеку паттерны поведения и потребительский образ жизни. Критикуя искусство за элитизм, Дебор в качестве альтернативы «высшей деятельности» предлагает новые жизненные практики – через методы дрейфа, detournement, создание ситуаций. Поворот к перформативному сопровождается дрейфом искусства в целом к новым коммуникативным практикам. Театр же видится как поле коммуникации. В «Квартире» и в «Исследовании ужаса» Бориса Павловича, в некоторых проектах Всеволода Лисовского («Неявные воздействия») изучаются «идиорритмические» [13, с. 51-52] (термин Ролана Барат вводит в изучаемый контекст Марина Исраилова в уже упомянутой статье), то есть сохраняющие индивидуальный ритм и свободу, социальные отношения внутри микросообщества. В «Квартире» Павловича проблематизируется соотношение социального и театрального перформанса: они оказываются «не разделены, а слиты в одновременности и едином пространстве. То есть предметом исследования становится социальная ткань как таковая» [11]. В сайт-специфических «Неявных воздействиях» Лисовского, пришедшего из андеграунда, а потому легко реализовывающему стратегии арта на территории театра, путешествие по городу без инструкции становится траекторией, в которой намечены точки, но не определен способ поведения, – группа людей неизбежно разбивается на микросообщества и одиночек. За проведенное вместе «реальное время» зрители меняют свои привычные роли, получая на пару часов опыт альтернативной жизни. «Эта симуляция равенства и приятия может и должна быть политизирована», [11] – тем более, что путешествие было сопряжено с неизбежными столкновениями с полицией и охранниками. В свияжском сайт-специфике «Надзирать и наказывать» перформеры, зарытые в песок, произносили тексты Мишеля Фуко. Все это – дрейф, в ходе которого посредством особых манифестаций и действий меняется облик места.
Театр ТРУ в спектаклях «Нет дороги назад» (2013), «Фразы простых людей» (2019) заменяют рассказывание истории фактом присутствия зрителя на спектакле, то есть превращают зрителя в свидетеля» [14]. «Каждая ситуация – наш учитель, – комментирует свои уличные проекты в Алтуфьево хореограф Ольга Цветкова, опираясь на Лао-Цзы и на Кейджа, – но она не повторится, поэтому писать свод законов бессмысленно» [15]. На практике это означает принцип равенства между авторами спектакля, предметами, звуками и движениями, центром и периферией. В перформансе «Дано мне тело» («Театр. На вынос», фестиваль «Трансформация», Ростов-на-Дону, 2019) расставленные по двору молчаливые «тела» с напечатанными текстами в руках совершали ряд лаконичных действий. Идея «Театра. На вынос» выросла из желания «знакомства с городским пространством, в котором можно делать спектакль прямо сейчас» [16]. И хотя отправной точкой сегодняшних экспериментов в области новых пространств часто является желание повлиять на общество, дальше социальный жест художника, осуществляемый в публичном пространстве, превращается в автономное и принадлежащее области искусства. Задача – различить эти эстетические качества нового театра и перформанса.
Для перформативного сегмента современного театра (а у Фишер-Лихте, как и у Лемана практически весь современный театр это и есть перформативное) характерно, что зрители в реальном времени «предъявляют собственное существование на сцене в качестве политических субъектов» [11] – причем это происходит и в тех случаях, когда речь идет вовсе не об иммерсивном спектакле, а об «обычном», не втягивающем зрителя в представление. Это происходит потому, что в рамках такого рода спектакля (в качестве примера Исраилова приводит «Квартиру» Бориса Павловича) меняются привычные нам социальные роли, благодаря чему мы чувствуем себя неожиданно естественно. Естественно – значит не так, как обычно, то есть как мы привыкли в соответствии с принятыми на себя «ролями».
Ги Дебор утверждал, что единственным увлекательным занятием являются «отрывочные поиски нового образа жизни» [12, с. 47]. Через изучение законов и конкретных воздействий географической среды на поведение и «ситуации», можно подорвать идею капиталистической упорядоченности, навязывающую человеку паттерны поведения и потребительский образ жизни. Критикуя искусство за элитизм, Дебор в качестве альтернативы «высшей деятельности» предлагает новые жизненные практики – через методы дрейфа, detournement, создание ситуаций. Поворот к перформативному сопровождается дрейфом искусства в целом к новым коммуникативным практикам. Театр же видится как поле коммуникации. В «Квартире» и в «Исследовании ужаса» Бориса Павловича, в некоторых проектах Всеволода Лисовского («Неявные воздействия») изучаются «идиорритмические» [13, с. 51-52] (термин Ролана Барат вводит в изучаемый контекст Марина Исраилова в уже упомянутой статье), то есть сохраняющие индивидуальный ритм и свободу, социальные отношения внутри микросообщества. В «Квартире» Павловича проблематизируется соотношение социального и театрального перформанса: они оказываются «не разделены, а слиты в одновременности и едином пространстве. То есть предметом исследования становится социальная ткань как таковая» [11]. В сайт-специфических «Неявных воздействиях» Лисовского, пришедшего из андеграунда, а потому легко реализовывающему стратегии арта на территории театра, путешествие по городу без инструкции становится траекторией, в которой намечены точки, но не определен способ поведения, – группа людей неизбежно разбивается на микросообщества и одиночек. За проведенное вместе «реальное время» зрители меняют свои привычные роли, получая на пару часов опыт альтернативной жизни. «Эта симуляция равенства и приятия может и должна быть политизирована», [11] – тем более, что путешествие было сопряжено с неизбежными столкновениями с полицией и охранниками. В свияжском сайт-специфике «Надзирать и наказывать» перформеры, зарытые в песок, произносили тексты Мишеля Фуко. Все это – дрейф, в ходе которого посредством особых манифестаций и действий меняется облик места.
Театр ТРУ в спектаклях «Нет дороги назад» (2013), «Фразы простых людей» (2019) заменяют рассказывание истории фактом присутствия зрителя на спектакле, то есть превращают зрителя в свидетеля» [14]. «Каждая ситуация – наш учитель, – комментирует свои уличные проекты в Алтуфьево хореограф Ольга Цветкова, опираясь на Лао-Цзы и на Кейджа, – но она не повторится, поэтому писать свод законов бессмысленно» [15]. На практике это означает принцип равенства между авторами спектакля, предметами, звуками и движениями, центром и периферией. В перформансе «Дано мне тело» («Театр. На вынос», фестиваль «Трансформация», Ростов-на-Дону, 2019) расставленные по двору молчаливые «тела» с напечатанными текстами в руках совершали ряд лаконичных действий. Идея «Театра. На вынос» выросла из желания «знакомства с городским пространством, в котором можно делать спектакль прямо сейчас» [16]. И хотя отправной точкой сегодняшних экспериментов в области новых пространств часто является желание повлиять на общество, дальше социальный жест художника, осуществляемый в публичном пространстве, превращается в автономное и принадлежащее области искусства. Задача – различить эти эстетические качества нового театра и перформанса.
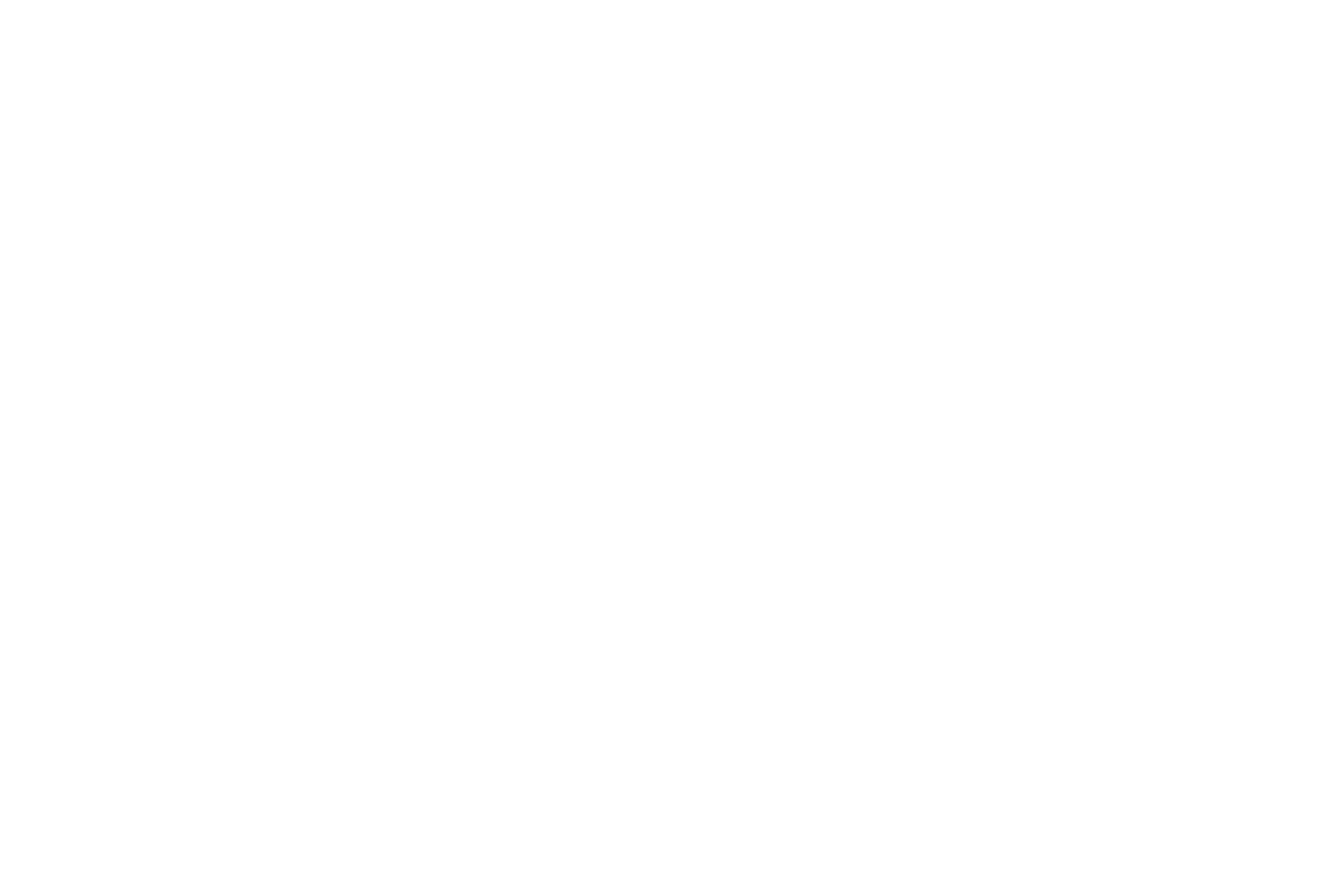
"Abuse Opera"
Театр. На вынос
Режиссеры -
А. Ершов и М. Карнаухов
Театр. На вынос
Режиссеры -
А. Ершов и М. Карнаухов
Ключевой для российского «перформативного поворота» фигурой является Джон Кейдж. Первые теоретические открытия Кейджа относятся к 1950-м, когда он преподавал в колледже Блэк Маунтин. В театре они видели точку сборки, а не отдельный вид искусства. Стирание границ между дисциплинами не было задачей – задачей было создание события, а не «спектакля». Театр стал для художников разных специализаций местом, имеющим сходство с природой: Кейдж призывал вспомнить, что у нас есть не только уши, но и глаза, и нужно их использовать их до тех пор, пока мы живы. То есть театр представал лабораторией по стиранию границ между дисциплинами и миграции спектакля от артефакта к событию, в котором осуществляется набор телесных действий или репрезентаций в реальном времени. Именно эта «модель» работы для нас актуальна сегодня.
Взятая Кейджом и Мерсом Каннингемом концепция Оскара Шлеммера заключалась в том, что каждую пядь театра как пространственного искусства следует рассматривать как потенциальную площадку для действия. Установка на использование любого пространства, в том числе заброшенного, и превращение его в театральное, свойственна и Ричарду Шехнеру, в 1960-е разрабатывавшему сайт-специфик. Обратившись в середине 1940-х – начале 1950-х к дзен-буддизму, Кейдж перенес принцип безоценочного приятия жизни на сочинительскую практику («Лекция о ничто», 1949 – 1950): итогом стал способ сочинения музыки, основанный на методе случайных действий («Музыка перемен», 1951). Отказ от вмешательства композитора и стремление «успокоить разум и тем самым обретать восприимчивость к божественным воздействиям» положили начало демократизации входа в профессию. Недалека от этого идея Йозефа Бойса о том, что «каждый человек – художник». Все эти «великие универсальные идеи» используют в своих рефлексиях российские «миллениалы», если можно их поколенчески обобщить. И обращаются они к Кейджу, а не к перформативному повороту, который описывает Фишер-Лихте. Почему они сегодня обращаются к открытиям послевоенного неоавангарда? В чем их отличие от знаменитых предшественников? Какова специфика театра, который они хотят делать и делают? На эти вопросы попробуем ответить.
Во-первых, важен историко-политический контекст: для нынешней российской ситуации понятия «свободы» и «протеста» актуальны и болезненны. Искусство, театр в том числе, чуть ли не единственная территория, где можно себе позволить жест свободы, пусть и деструктивный. Здесь, конечно, сильно откликаются 1960-е. Создавая в 1960-е и 1970-е искусство, которое потенциально может быть полезным обществу, Кейдж полагал, что музыка, выйдя за рамки произведений, даст человечеству руководство в ежедневной жизни. В социокультурной утопии искусство становится опытной станцией, где исследуются возможности жизни. Жизнестроительный аспект увлекает и сегодняшних художников, создающих пространства комфортной, приватной жизни и соединяя искусство с социальной практикой, которая позволяет сопротивляться негативному воздействию на свободу человека. Эти «альянсы», если пользоваться терминологией Джудит Батлер, и составляют сеть тихого сопротивления.
Важно отстаивание свободы от институции (часто декларативное – потому что на деле все сотрудничают с институциями, на время прекращая их критику) и независимость от «профессионального диплома» и образования, которое в свете новой этики обретает черты репрессивности. Отрицая профессиональную специализацию, Лисовский говорит: «Я очень не люблю слово «художник» в широком смысле. Для меня магистральное направление искусства задано категорическим императивом Бойса: «каждый человек — художник». То есть смысл в нивелировании художественной деятельности. <…> я избегаю слова «режиссер» — потому что оно ассоциируется с креаторством, артистизмом» [17]. Делая спектакли, Лисовский реализовывает концепт, а не разрабатывает технику театра. Именно поэтому он часто работает с непрофессионалами: в «Индивидах и атомарных предложениях» («Угол», 2018), «Акын-опере» (Театр.doc, 2013) и «Пещере» (Центр им. Вс. Мейерхольда, 2019). «Тибетская книга мертвых» (Театр.doc, 2016) Василия Березина сделана как иллюстрация тезиса «давайте поиграем в то, что театра больше нет».
Во-вторых, важны эстетические принципы, почерпнутые у Кейджа и находящие применение сегодня, поскольку размывают жесткость драматического театра как театра, застроенного режиссером и посягающего на полноту обладания вниманием зрителя. Принцип случайности и открытости внешним влияниям (природе), целенаправленная бесцельность вместо попытки упорядочить хаос, открытые и практиковавшиеся в 1960-е, звучат в манифестируемом Семеном Александровским «театре вычитания» и театре «внезапного появления», за которым стоит желание обустроить собственную территорию утопии.
Взятая Кейджом и Мерсом Каннингемом концепция Оскара Шлеммера заключалась в том, что каждую пядь театра как пространственного искусства следует рассматривать как потенциальную площадку для действия. Установка на использование любого пространства, в том числе заброшенного, и превращение его в театральное, свойственна и Ричарду Шехнеру, в 1960-е разрабатывавшему сайт-специфик. Обратившись в середине 1940-х – начале 1950-х к дзен-буддизму, Кейдж перенес принцип безоценочного приятия жизни на сочинительскую практику («Лекция о ничто», 1949 – 1950): итогом стал способ сочинения музыки, основанный на методе случайных действий («Музыка перемен», 1951). Отказ от вмешательства композитора и стремление «успокоить разум и тем самым обретать восприимчивость к божественным воздействиям» положили начало демократизации входа в профессию. Недалека от этого идея Йозефа Бойса о том, что «каждый человек – художник». Все эти «великие универсальные идеи» используют в своих рефлексиях российские «миллениалы», если можно их поколенчески обобщить. И обращаются они к Кейджу, а не к перформативному повороту, который описывает Фишер-Лихте. Почему они сегодня обращаются к открытиям послевоенного неоавангарда? В чем их отличие от знаменитых предшественников? Какова специфика театра, который они хотят делать и делают? На эти вопросы попробуем ответить.
Во-первых, важен историко-политический контекст: для нынешней российской ситуации понятия «свободы» и «протеста» актуальны и болезненны. Искусство, театр в том числе, чуть ли не единственная территория, где можно себе позволить жест свободы, пусть и деструктивный. Здесь, конечно, сильно откликаются 1960-е. Создавая в 1960-е и 1970-е искусство, которое потенциально может быть полезным обществу, Кейдж полагал, что музыка, выйдя за рамки произведений, даст человечеству руководство в ежедневной жизни. В социокультурной утопии искусство становится опытной станцией, где исследуются возможности жизни. Жизнестроительный аспект увлекает и сегодняшних художников, создающих пространства комфортной, приватной жизни и соединяя искусство с социальной практикой, которая позволяет сопротивляться негативному воздействию на свободу человека. Эти «альянсы», если пользоваться терминологией Джудит Батлер, и составляют сеть тихого сопротивления.
Важно отстаивание свободы от институции (часто декларативное – потому что на деле все сотрудничают с институциями, на время прекращая их критику) и независимость от «профессионального диплома» и образования, которое в свете новой этики обретает черты репрессивности. Отрицая профессиональную специализацию, Лисовский говорит: «Я очень не люблю слово «художник» в широком смысле. Для меня магистральное направление искусства задано категорическим императивом Бойса: «каждый человек — художник». То есть смысл в нивелировании художественной деятельности. <…> я избегаю слова «режиссер» — потому что оно ассоциируется с креаторством, артистизмом» [17]. Делая спектакли, Лисовский реализовывает концепт, а не разрабатывает технику театра. Именно поэтому он часто работает с непрофессионалами: в «Индивидах и атомарных предложениях» («Угол», 2018), «Акын-опере» (Театр.doc, 2013) и «Пещере» (Центр им. Вс. Мейерхольда, 2019). «Тибетская книга мертвых» (Театр.doc, 2016) Василия Березина сделана как иллюстрация тезиса «давайте поиграем в то, что театра больше нет».
Во-вторых, важны эстетические принципы, почерпнутые у Кейджа и находящие применение сегодня, поскольку размывают жесткость драматического театра как театра, застроенного режиссером и посягающего на полноту обладания вниманием зрителя. Принцип случайности и открытости внешним влияниям (природе), целенаправленная бесцельность вместо попытки упорядочить хаос, открытые и практиковавшиеся в 1960-е, звучат в манифестируемом Семеном Александровским «театре вычитания» и театре «внезапного появления», за которым стоит желание обустроить собственную территорию утопии.
"Сосед"
театр post
Режиссер - Д. Волкострелов
театр post
Режиссер - Д. Волкострелов
В 1945 Кейдж провозглашает: «я сочиняю, чтобы слышать», а не записываю уже услышанное. Использует для спектакля то, что подкидывает реальная жизнь, Волкострелов: «Почти в день премьеры («Злой девушки» в ТЮЗе им. А.А. Брянцева. – прим. К.М.) я понял: не то. И подумал: зачем что-то придумывать? Есть фильм, который я люблю, это чуть ли не первый фильм, который я посмотрел на видеокассете, мне его дала моя первая любовь в десятом классе, — «Мужское/женское». Надо отказываться от каких-то изначальных мыслей о том, что необходимо прослеживать какую-то тему. <…> Стоит эта пластинка — значит, надо ее использовать» [18].
Открытое Кейджем особое зрение, при котором тротуар становится столь же прекрасным, как живопись, для композитора означает внимание к тишине, которая не то же самое, что драматическая пауза или пунктуационная запинка, но – окно в будничную реальность. Иначе говоря, нет пустого пространства или незаполненного времени, всегда есть, на что посмотреть и что послушать [См. об этом: 19, с. 170]. Интерес Волкострелова к реальности в ее повседневном, как бы незаметном течении, очевидно, сопряжен с влиянием идеи Кейджа: «Русский театр совсем не исследует современную реальность. Никаким образом. Он ее игнорирует. А мне это как раз интересно. <…> нынешний инструментарий русского театра таков, что там нет инструментов для исследования этой реальности. Она поменялась, а инструментарий остался прежний» [18]. Волкострелов обрамляет реальность концептом, связанным со спокойным и созерцательным пребыванием внутри времени и пространства. Саму же реальность предоставляет Пряжко.
Игра с повседневным действием была затеяна в спектакле «Мы кружим в ночи, и нас пожирает пламя» (V-A-C, 2019) по текстам Ги Дебора. Дмитрий Власик, Ольга Цветкова, Андрей Стадников работали с жителями Крылатского, а сам спектакль игрался в местной библиотеке. Находясь в двух шагах от спящих людей, зрители оказывались свидетелями интимной жизни, запротоколированной и превращенной в паттерны некоего «танца».
Идея Кейджа о том, что композитор/режиссер/группа авторов позволяют жизни действовать самой по себе, внутри временных рамок (так называемых time brackets), была опробована в «Воображаемом ландшафте №1» (1939) – пьеса из почти одинаковых по времени 4-х частей, каждую из которых композитор заполнял любыми звуками. В «Музыке картриджей» (1960) для восприятия была принципиальна длительность перформанса. Концерт «Atlas Eclipticalis» (1961) напоминал посещение большого музея с множеством объектов и ответвлений, которые невозможно охватить разом, за одно посещение. В «Тишине» (1961), созданной под влиянием Эрика Сати, бессмысленное повторение успокаивало слушателей, создавая другое качество внимания и время, близкое к нормальному течению ежедневной жизни. Эти открытия Кейджа апробируются в работе Дмитрия Власика и Дмитрия Волкострелова «I am sitting in the room» по сочинению Элвина Люсье (1969). Марина Исраилова называет это исполнение текстовой партитуры акустического эксперимента самой чувственной работой театра post – «в том плане, что его (произведения) смысл будто перестает быть конструированным и переключает зрителя в режим чистой феноменологии, вслушивания в собственное переживание. <…> Рациональное мышление, построенное на анализе визуального, сталкивается с тем, что внеположено ему – телесным проживанием невидимого» [20]. Подобный эффект есть и в «Диджее Павле», где длительность спектакля предопределена длительностью каждого из саундтреков, составляющих пьесу Пряжко, под которые танцует театр post.
И работы театра post, и «Молчание на заданную тему» Лисовского продолжают вектор, обозначившийся в искусстве 1960-х, когда в результате перформативного поворота были выработаны приемы, «цель которых состояла в том, чтобы привлечь внимание к перформативному созданию материальности спектакля и досконально, практически как в научной лаборатории, исследовать различные факторы и специфические особенности этого процесса» [10, с. 138-139]. Внимание к среде, в которой мы находимся здесь и сейчас, подчеркивается специально. «Оглядитесь вокруг», говорится в инструкции, которую участники «Хорошо темперированных грамот» (театр post, 2019) видят на экране перед собой. В «Исследовании ужаса» обустроен контакт зрителей со средой, в которой на четыре часа оказываются все вместе. При этом структура и композиционное устройство спектакля не зависят от потенциального воздействия на него зрителей – Павлович работает на территории драматического.
В-третьих, важны средства производства спектакля. Среди учеников Кейджа, в 1950-е преподававшего в Новой школе социальных исследований, были художники из объединения Флюксус, настаивающие на том, что искусство должно делаться из того, что можно найти вокруг. Демократичность в выборе материала и средств производства, не зависящих от больших денег, способствовала нарушению иерархичности в искусстве. Ксения Перетрухина создает в коллаборации с другими людьми спектакль не только как арт-объект, сколько как разворачивающуюся в пространстве и времени среду для новых типов социального поведения. И предпочтительнее для создания этой среды использовать ready-made или дешевый материал.
В-четвертых, важны иные отношения между актером и зрителем. В «Поле» театра post (режиссер – Дмитрий Волкострелов) участие зрителей решалось с помощью генератора случайных чисел. «В теперешнем микромире, где действует принцип неопределенности, – пишет Зара Абдуллаева, – <…> меняется роль Наблюдателя. Иначе говоря, роль зрителя. Нет-нет, он не становится соучастником, соавтором произведений современных авторов. Этот классический этап пройден, даже если в каких-то практиках еще исчерпанным не считается. Новый наблюдатель влияет на результат эксперимента. В данном случае — драматургического и сценического» [21]. Текст Пряжко посвящен квантовой физике и теориям взаимодействия частиц; театр распаковал это «послание» на уровне структуры спектакля через ситуацию автореферентности: зрительское «поле» влияло на спектакль, а спектакль возвращал зрителю ответную реакцию.
Открытое Кейджем особое зрение, при котором тротуар становится столь же прекрасным, как живопись, для композитора означает внимание к тишине, которая не то же самое, что драматическая пауза или пунктуационная запинка, но – окно в будничную реальность. Иначе говоря, нет пустого пространства или незаполненного времени, всегда есть, на что посмотреть и что послушать [См. об этом: 19, с. 170]. Интерес Волкострелова к реальности в ее повседневном, как бы незаметном течении, очевидно, сопряжен с влиянием идеи Кейджа: «Русский театр совсем не исследует современную реальность. Никаким образом. Он ее игнорирует. А мне это как раз интересно. <…> нынешний инструментарий русского театра таков, что там нет инструментов для исследования этой реальности. Она поменялась, а инструментарий остался прежний» [18]. Волкострелов обрамляет реальность концептом, связанным со спокойным и созерцательным пребыванием внутри времени и пространства. Саму же реальность предоставляет Пряжко.
Игра с повседневным действием была затеяна в спектакле «Мы кружим в ночи, и нас пожирает пламя» (V-A-C, 2019) по текстам Ги Дебора. Дмитрий Власик, Ольга Цветкова, Андрей Стадников работали с жителями Крылатского, а сам спектакль игрался в местной библиотеке. Находясь в двух шагах от спящих людей, зрители оказывались свидетелями интимной жизни, запротоколированной и превращенной в паттерны некоего «танца».
Идея Кейджа о том, что композитор/режиссер/группа авторов позволяют жизни действовать самой по себе, внутри временных рамок (так называемых time brackets), была опробована в «Воображаемом ландшафте №1» (1939) – пьеса из почти одинаковых по времени 4-х частей, каждую из которых композитор заполнял любыми звуками. В «Музыке картриджей» (1960) для восприятия была принципиальна длительность перформанса. Концерт «Atlas Eclipticalis» (1961) напоминал посещение большого музея с множеством объектов и ответвлений, которые невозможно охватить разом, за одно посещение. В «Тишине» (1961), созданной под влиянием Эрика Сати, бессмысленное повторение успокаивало слушателей, создавая другое качество внимания и время, близкое к нормальному течению ежедневной жизни. Эти открытия Кейджа апробируются в работе Дмитрия Власика и Дмитрия Волкострелова «I am sitting in the room» по сочинению Элвина Люсье (1969). Марина Исраилова называет это исполнение текстовой партитуры акустического эксперимента самой чувственной работой театра post – «в том плане, что его (произведения) смысл будто перестает быть конструированным и переключает зрителя в режим чистой феноменологии, вслушивания в собственное переживание. <…> Рациональное мышление, построенное на анализе визуального, сталкивается с тем, что внеположено ему – телесным проживанием невидимого» [20]. Подобный эффект есть и в «Диджее Павле», где длительность спектакля предопределена длительностью каждого из саундтреков, составляющих пьесу Пряжко, под которые танцует театр post.
И работы театра post, и «Молчание на заданную тему» Лисовского продолжают вектор, обозначившийся в искусстве 1960-х, когда в результате перформативного поворота были выработаны приемы, «цель которых состояла в том, чтобы привлечь внимание к перформативному созданию материальности спектакля и досконально, практически как в научной лаборатории, исследовать различные факторы и специфические особенности этого процесса» [10, с. 138-139]. Внимание к среде, в которой мы находимся здесь и сейчас, подчеркивается специально. «Оглядитесь вокруг», говорится в инструкции, которую участники «Хорошо темперированных грамот» (театр post, 2019) видят на экране перед собой. В «Исследовании ужаса» обустроен контакт зрителей со средой, в которой на четыре часа оказываются все вместе. При этом структура и композиционное устройство спектакля не зависят от потенциального воздействия на него зрителей – Павлович работает на территории драматического.
В-третьих, важны средства производства спектакля. Среди учеников Кейджа, в 1950-е преподававшего в Новой школе социальных исследований, были художники из объединения Флюксус, настаивающие на том, что искусство должно делаться из того, что можно найти вокруг. Демократичность в выборе материала и средств производства, не зависящих от больших денег, способствовала нарушению иерархичности в искусстве. Ксения Перетрухина создает в коллаборации с другими людьми спектакль не только как арт-объект, сколько как разворачивающуюся в пространстве и времени среду для новых типов социального поведения. И предпочтительнее для создания этой среды использовать ready-made или дешевый материал.
В-четвертых, важны иные отношения между актером и зрителем. В «Поле» театра post (режиссер – Дмитрий Волкострелов) участие зрителей решалось с помощью генератора случайных чисел. «В теперешнем микромире, где действует принцип неопределенности, – пишет Зара Абдуллаева, – <…> меняется роль Наблюдателя. Иначе говоря, роль зрителя. Нет-нет, он не становится соучастником, соавтором произведений современных авторов. Этот классический этап пройден, даже если в каких-то практиках еще исчерпанным не считается. Новый наблюдатель влияет на результат эксперимента. В данном случае — драматургического и сценического» [21]. Текст Пряжко посвящен квантовой физике и теориям взаимодействия частиц; театр распаковал это «послание» на уровне структуры спектакля через ситуацию автореферентности: зрительское «поле» влияло на спектакль, а спектакль возвращал зрителю ответную реакцию.
"Questioning/Кто ты?"
Pop-up театр
Режиссер (адаптация) - С. Александровский
Pop-up театр
Режиссер (адаптация) - С. Александровский
Сегодня театральные художники – те, кто в силу разных причин исследует область перформативного, – в своей практике часто опираются на идеи, открытые в 1960-е. Перформативный поворот, произошедший в послевоенном искусстве на Западе, нашел глубокий отклик в российском театре 2010-х – 2020-х. То, как апробирует драматический театр открытия прошлого, как и куда он мутирует – актуальная повестка, которую можно изучать только гибко, потому что далеко не все классифицируется. Поэтому я выбрала другой путь – обнаружения сходств и различий между тем, что было, и тем, что разнообразно проявляется сейчас.
Специфика российского «перформативного поворота» определяется совершенно другим культурным контекстом ХХI века. Европейская ситуация была отмечена прежде всего резким завершением модернизма и переходом к постмодернизму. Закончился ли постмодернизм сегодня? – вопрос открытый. Но тотальное в постмодернизме понимание художественного контекста как реальности ушло в прошлое. Сегодняшний театр стремительно разрушает художественную реальность и стремится либо к социальности, либо к отвлеченной игре. Но вместе с тем, в российской ситуации не исчерпан модернистский «проект». Желание обнаружить и за внешней игрой, и за социальностью нечто глубокое, подлинное, единственное – остается актуальным для русского театра.
Список литературы:
1. Осминкин Р.С. Дом культуры как лаборатория. Опыт самоорганизованных кружков ДК Розы// Шаги / Steps. Т. 5. № 4. 2019. С. 186-201.
2. Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C, 2018. 528 с.
3. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ad Marginem Press, 2014. 319 с.
4. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, ABCdesign, 2013. 311 с.
5. Джурова Т. Хорошая квартира // Петербургский театральный журнал. Блог. 2018. 30 января. http://ptj.spb.ru/blog/razgovory-vprostranstve-kva...
6. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 216 с.
7. Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 248 с.
8. Кулик И. Театр с протянутой рукой // Коммерсант. 2004. 5 февраля. https://www.kommersant.ru/doc/4512162
9. Кабаков И. 60-70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: НЛО, 2008. 365 с.
10. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Международное театральное агентство "Play&Play" : Канон+, 2015. 375 с.
11. Исраилова М. Что мы видим, когда смотрим спектакль // Syg.ma. 2018. 5 июня. https://syg.ma/@marina-israilova/chto-my-vidim-my-smotrim-spiektakl
12. Дебор Г. Ситуационисты и новые формы действия в политике и искусстве. Статьи и декларации. 1952 – 1985. М.: Гилея, 2018. 392 с.
13. Барт Р. Как жить вместе: романтические симуляции некоторых пространств повседневности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 272 с.
14. Киселев А. Субъективные итоги-2013. Театр ТРУ// Афиша – Воздух. 2013. 23 декабря. https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/teatr-t...
15. Тараканова О. Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать // The Village. 2019. 4 сентября. https://www.the-village.ru/village/weekend/weeknd-theatre/361257-tsvetkova
16. Ершов А. Театр. На вынос: вместо актеров – прохожие, вместо сцены – заброшки и стримы, вместо миссии - радость: интервью П. Прокофьевой// Нож. 2018. 29 марта. https://knife.media/theater-takeaway
17. Зинцов О. Ну и Вот. Комиссар Лисовский в 2017 году// Театр. 2017. № 29. http://oteatre.info/nu-i-vot-komissar-lisovskij-v-...
18. Дмитрий Волкострелов: «…Не думать о зрителе»: Беседу ведет Зара Абдуллаева //Искусство кино. 2013. № 5. https://old.kinoart.ru/archive/2013/05/dmitrij-vol...
19. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 400 с.
20. Исраилова М. «Вслух». I am sitting in the room Элвина Люсье в театре. https://syg.ma/@marina-israilova/vslukh-i-am-sitting-in-a-room-elvina-liusie-v-tieatrie
21. Абдуллаева З. Дар случайный, не напрасный// Colta.ru. 2016. 9 февраля.https://www.colta.ru/articles/theatre/10058-dar-sl...
Специфика российского «перформативного поворота» определяется совершенно другим культурным контекстом ХХI века. Европейская ситуация была отмечена прежде всего резким завершением модернизма и переходом к постмодернизму. Закончился ли постмодернизм сегодня? – вопрос открытый. Но тотальное в постмодернизме понимание художественного контекста как реальности ушло в прошлое. Сегодняшний театр стремительно разрушает художественную реальность и стремится либо к социальности, либо к отвлеченной игре. Но вместе с тем, в российской ситуации не исчерпан модернистский «проект». Желание обнаружить и за внешней игрой, и за социальностью нечто глубокое, подлинное, единственное – остается актуальным для русского театра.
Список литературы:
1. Осминкин Р.С. Дом культуры как лаборатория. Опыт самоорганизованных кружков ДК Розы// Шаги / Steps. Т. 5. № 4. 2019. С. 186-201.
2. Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C, 2018. 528 с.
3. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ad Marginem Press, 2014. 319 с.
4. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, ABCdesign, 2013. 311 с.
5. Джурова Т. Хорошая квартира // Петербургский театральный журнал. Блог. 2018. 30 января. http://ptj.spb.ru/blog/razgovory-vprostranstve-kva...
6. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 216 с.
7. Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 248 с.
8. Кулик И. Театр с протянутой рукой // Коммерсант. 2004. 5 февраля. https://www.kommersant.ru/doc/4512162
9. Кабаков И. 60-70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: НЛО, 2008. 365 с.
10. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Международное театральное агентство "Play&Play" : Канон+, 2015. 375 с.
11. Исраилова М. Что мы видим, когда смотрим спектакль // Syg.ma. 2018. 5 июня. https://syg.ma/@marina-israilova/chto-my-vidim-my-smotrim-spiektakl
12. Дебор Г. Ситуационисты и новые формы действия в политике и искусстве. Статьи и декларации. 1952 – 1985. М.: Гилея, 2018. 392 с.
13. Барт Р. Как жить вместе: романтические симуляции некоторых пространств повседневности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 272 с.
14. Киселев А. Субъективные итоги-2013. Театр ТРУ// Афиша – Воздух. 2013. 23 декабря. https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/teatr-t...
15. Тараканова О. Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать // The Village. 2019. 4 сентября. https://www.the-village.ru/village/weekend/weeknd-theatre/361257-tsvetkova
16. Ершов А. Театр. На вынос: вместо актеров – прохожие, вместо сцены – заброшки и стримы, вместо миссии - радость: интервью П. Прокофьевой// Нож. 2018. 29 марта. https://knife.media/theater-takeaway
17. Зинцов О. Ну и Вот. Комиссар Лисовский в 2017 году// Театр. 2017. № 29. http://oteatre.info/nu-i-vot-komissar-lisovskij-v-...
18. Дмитрий Волкострелов: «…Не думать о зрителе»: Беседу ведет Зара Абдуллаева //Искусство кино. 2013. № 5. https://old.kinoart.ru/archive/2013/05/dmitrij-vol...
19. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 400 с.
20. Исраилова М. «Вслух». I am sitting in the room Элвина Люсье в театре. https://syg.ma/@marina-israilova/vslukh-i-am-sitting-in-a-room-elvina-liusie-v-tieatrie
21. Абдуллаева З. Дар случайный, не напрасный// Colta.ru. 2016. 9 февраля.https://www.colta.ru/articles/theatre/10058-dar-sl...
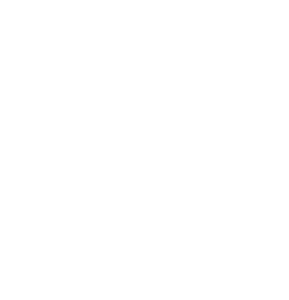
Кристина Матвиенко
Читайте также
25 веков театроведения
25 веков театроведения
Всё из раздела «Практика»

